Новый альбом Зангези «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» интересен прежде всего как предельный случай трэпа – отклонение, не разрывающее с поджанром, но позволяющее увидеть его границы. Это музыка, которая узнаваемо воспроизводит трэп (его игровой характер, неестественное автотюновое звучание, образную экзотичность) и вместе с тем смещает его привычные акценты, заставляя форму работать иначе.
О «СУВЕРЕННОМ СИЯНИИ» по этой причине трудно размышлять. Стиль Зангези одновременно укоренён в трэпе — с его квадратными строками и выкрученными басами, – и концептуально разомкнут, как челюсти капкана где-то в глубине леса, которые ждут именно твоей ноги.

Обложка нового альбома Зангези «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ»
«Исключение выясняет и общее, и само себя», – писал Сёрен Кьеркегор[1]. Именно в этом смысле, как кажется, следует рассматривать новый альбом Зангези – не просто как частный случай, но как исключение внутри современного трэпа, позволяющее увидеть его границы и внутренние сдвиги. Воспроизводя и переосмысляя устойчивые фигуры поджанра, «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» одновременно переосмысляет их, выявляя те степени свободы и траектории развития, которые в обычной практике жанра остаются неотрефлексированными[2].
Уже в самом названии альбома намечаются две смысловые доминанты. Можно понимать суверенность как форму автономии государства – считываемый политический символ, получающий на альбоме выражение в личном, ангажированном высказывании, – и как характеристику самого «сияния» трэпа, понятого в художественном смысле, как право на эстетическое существование вне утилитарных, рыночных критериев современной музыки.
Эти две линии задают и два различных способа смещения поджанра. На первый взгляд, речь идёт только о политическом смещении, связанном с нарождающимся консервативным поворотом в российской культуре: личным обращением автора к коду современного консервативного дискурса, к символическому языку так называемых традиционных ценностей, которые сегодня одни пытаются уточнить в продуктивном обсуждении, а другие вульгаризируют до уровня идеологических установок или, наоборот, почти рефлекторно им противятся. Однако тот же мотив суверенности метафорически переносится и в эстетическую плоскость – в область художественной разработки трэпа, о которой уже было частично сказано в отдельном тексте.
Суверенность как политическая ангажированность и суверенность как эстетическая автономия кажутся категориями разных порядков. Однако в логике альбома они сближаются, образуя устойчивую смысловую связку. Это сближение носит не понятийный, а метафорический характер: речь идёт не о тождестве политического и эстетического, а об уподоблении, обнаружении общего в различном.
Уместно в этом смысле вспомнить замечание М. Эпштейна о том, что метафора возникает как результат «расчленения мифологического образа-метаморфозы на отражаемое и отражающее, между которыми устанавливается связь по сходству»[3]. Если предположить в суверенности корневую метафору альбома, то политическое и эстетическое не сливаются, но удерживаются в соотнесённости – как разные планы одного действия, сходные по характеру утверждения автономии.
Ключевым образом альбома, в котором чувствуется эта сопряженность политического и эстетического, становится «тревожная молодость». Наше сегодня, наши «тёмные двадцатые», в которых «всё идёт, как надо, большими шагами в пропасть», а культурная среда «не порождает ничего кроме стыда». Этот образ содержит определенный опыт переживания современности, на котором стоит остановиться подробнее.
Откуда возникает тревожное состояние в текстах Зангези? Современность воспринимается художественным сознанием как незаконно отнятое пространство («Наша эпоха – это сквот, но в ней никто и не живёт»), как результат чужих выборов («Сегодня – это то, что вчера не предотвратили»), как навязанная реальность, в которой человеку не отведено собственного места. Такое восприятие принципиально обращено не столько к настоящему, сколько к прошлому – к моменту происхождения химеры, называемой современностью.
Зангези предполагает, когда было это «вчера», оставившее за собой ничего кроме «эха пустоты»: в период развала Советского Союза или во времена «прогулок по Болотной», например. Важнее при этом не конкретная точка, а сам модус существования, в котором формируется голос «трэпера и поэта». Этот голос звучит как бы из постфактум-реальности – из чужой, состоявшейся без его участия эпохи. Именно это ощущение несвоевременности и задаёт тревожный тон рэперу, живущему в случившемся до него мире.
Показателен в этом отношении мотив ностальгии, который у Зангези не сводится ни к ретро-эстетике, ни к историческому ресентименту. Здесь прошлое важно уже не как причина настоящего, а как точка зрения, позволяющая увидеть неполноту последнего.
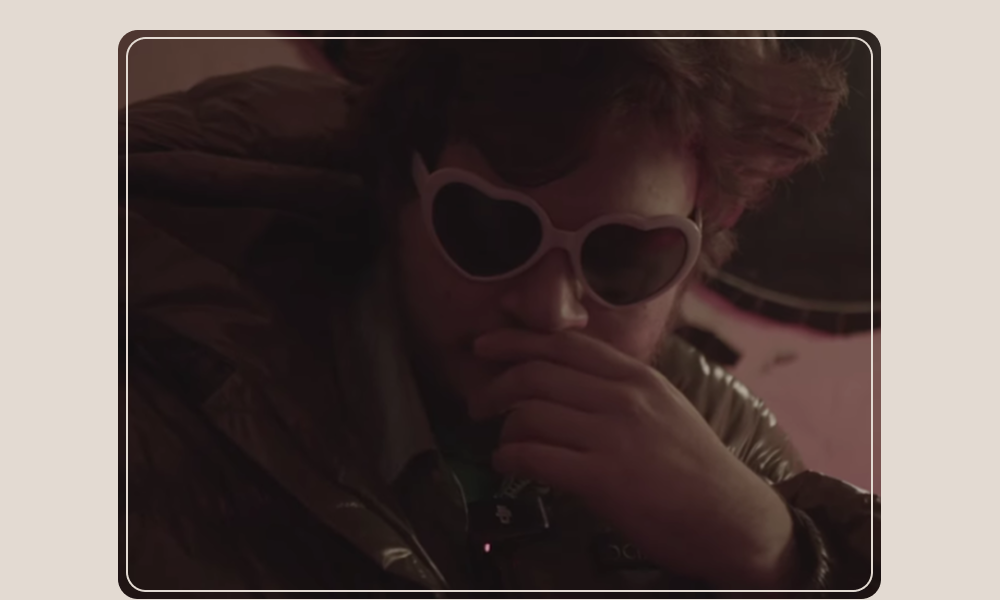
Даниил Киберев (Зангези) в интервью «Суверенному искусству» в клубе «Лахесис»
Он говорит: «Я слышал, что была одна страна, где день рождения под блатняк не отмечали города». Но что эта за страна? СССР ли, из которого дымится сигарета «советского Шерлока Холмса», Российская ли Империя, правителям которой в чём-то можно «респектовать», или, может быть, Византия («Она скучает по MTV, а мы скучаем по Византии»). Скорее, это образ мира утраченной целостности – возможного, несостоявшегося порядка, в сравнении с которым современность и переживается как раздробленная, повреждённая. Автотюн поверх беспокойных сэмплов Лоры (спасибо ему) только подчёркивает разрыв с этим воображаемым горизонтом.
Но если послушать внимательнее все новые треки, в том числе песню, названную «О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ», то можно убедиться, что этой оценкой «из прошлого» главный образ альбома не исчерпывается. Тревожное время переживается здесь не только как утрата, но и как молодость – как состояние открытости, как возможность там, где, казалось бы, никаких возможностей уже не предусмотрено. Эта возможность не формулируется напрямую, но она проступает в образах и темах альбома, в калейдоскопической фактуре текста, в том самом «бисероплетении», которое основано на цветовых гармониях и изгибах алюминиевой проволоки.
Именно здесь возникает напряжение между автором и выбранной им формой. Трэп – поджанр, изначально склонный к повторению, к почти автоматическому воспроизводству устойчивых риторических фигур, во многом заданному рыночной логикой.
Трэпер, например, может бесконечно варьировать формулы флекса своим состоянием вокруг конкретных частей тела (шеи, запястий), в которые богатство буквально «вписывается»: от простого «Hundred grand on my wrist, same on my neck» («сто тысяч у меня на шее, столько же на запястье») у Lil Wayne или «Diamonds all on my wrist» («бриллианты на моей шее») и «flooded my wrist with baguettes» («утопил свою шею в камнях») у Lil Uzi Vert до «neck full of pearls, i got water» («вся моя шея в жемчуге, у меня вода») у Yung Thug.
Эти жанровые формулы настолько устойчивы, что не могут быть просто отменены или отброшены; единственное, что с ними возможно сделать, – это сдвинуть их, вывести из автоматизма, уведя от прямой привязки к демонстративному потреблению. Потому в творчестве Зангези переосмысление трэпа, возвышение его над самим собой («Трэп – животное музло, мы над этим возвысились»), становится возможным с изменением отношения к вещи.
Известно, что для классического рэпа (и для трэпа особенно) характерна фетишизация товарной формы, демонстративное потребление, статусная репрезентация через бренды, марки машин и прочие атрибуты успеха. Зангези же подвергает эти «каноны» жанра заметной трансформации.
Отступая от вещизма, рэпер стремится к чему-то навроде эстетики предметной автономии: предметы быта, который в жанре традиционно должен быть исключительным, перестают нести за собой знак социального превосходства, воспринимаются как красота в классическом понимании формы целесообразности без цели.
Отсюда – маньеристское внимание к повседневности, её поэтическое остранение: «фисташковые тимбы из нубука», «редбул и ангельский бисквит», «лексус цвета блохи» «у меня пластиковое сердце, моя кровь – “Мажитель”». Когда рэпер ест «Несквик Дао», ему уже всё понятно – и это понт не вещами, а обнаруженной в них гармонией. Это не всегда авторские метафоры, но иногда и небывалое уединение вещей («синхайзеры перелеплелись с цепочкой для креста» или «бронзовые стики на распустившиеся цветы»), и просто найденная среди самих вещей экзотика, возникающая при незначительном смещении взгляда, будь то буквально переведённый pork pie hat – «на голове шляпа свиной пирог» – или «попкорновая болезнь».
Этот же принцип можно обнаружить не только в текстах, но и в визуальных работах Зангези. В новом клипе «ЛАГУТЕНКО 2003» то же родство экзотичных предметов быта: пирожное чокопай венский торт соседствует с пакетом из ДЛТ или сменяется кадрами, в которых мелькает сам Даниил Киберев на фоне красных упаковок «Сомат» в торговом центре. Повседневные вещи, лишённые символического веса и привычной иерархии, сближаются здесь не по функции, а по цвету, фактуре, первичному впечатлению от них. Так выявляется внутренняя связность городской материи, которая окружает всех, но почти не переживается как целое.

Chocopie «Венский торт» из клипа Зангези «ЛАГУТЕНКО 2003»
В сущности, всё это – образы продуктов современной культуры, предметов, изначально созданных человеком и включённых в оборот его воли, вкуса и намерений. Однако в логике текстов альбома они утрачивают статус производных и начинают существовать автономно – как бы вне человека и вне его замысла. Поэтому они не обслуживают нарратив обладания: вещь здесь не предъявляется как знак успеха и даже не присваивается в полной мере субъектом, а задерживается как форма, доступная лишь созерцанию. Она уже не продолжает человеческую волю, а как бы отступает от неё, обнаруживая свой отчужденный способ существования где-то поблизости.
Предметы быта в текстах альбома настолько часто вступают в причудливые сочетания, что постепенно складываются в особый, замкнутый в себе мир – своего рода искусственную природу. Из каждого упомянутого предмета произрастает сначала цвет, а потом и органика. Так и получается: если машина, то «мятный Lotus», из названия которого выпирает цветок, или «салон Alfa-Romeo оттенка масла арахиса», если одежда, то обязательно «штаны цвет канарейка» или «вишнёвые мартинсы», или, чтобы не мелочиться, – «земная мантия на плечах».
В этом месте невольно вспоминается мысль Юлиуса Эволы о «повторном открытии языка неодушевлённого» – того безмолвного «языка» вещей, который становится различимым лишь тогда, когда человек отказывается заполнять мир собой. Природа в таком традиционалистском понимании – стоящее перед человеком отчуждённое царство форм, требующее не присвоения, а сосредоточенного творческого взгляда[4]. Именно в этом деятельном созерцании вещь перестаёт быть функцией и вновь обретает красоту – и красоту дикую, как «плотоядная орхидея», как «хищный цветок на твоём окне».
Такая «хищная» городская повседневность, требующая поэтического приручения, в «СУВЕРЕННОМ СИЯНИИ» воссоздает растущую тревожную молодость, но уже без ангажированной оценки культурного состояния («Но пока в России такая культура, я здесь детей не хочу заводить», например). На образном уровне в ткани тревожного современного мира обнаруживается возможность увидеть ещё не исчерпанную способность к красоте.
В сущности, мир и культура одновременно воспринимаются художественным сознанием Зангези как утраченные и как потенциальные. Они мыслятся, с одной стороны, как нечто уже случившееся – оставшееся в прошлом, фрагментированное, лишённое преемственности, признавшее «нормой проявленья греха». С другой стороны, эта утрата делает возможным открытие «новых территорий» в трэпе.
Эстетическое смещение от потребления к созерцательности закономерно сопутствует тематическому «консервативному» обновлению на альбоме – особенно заметному в таких треках, как «ЦЕЛОМУДРИЕ», «КОНСЕРВАТИВНЫЙ ШИК», «ЗАНГЕЗИ». О них мы поговорим отдельно, прежде всего объяснив тот круг тем и идейных установок, которые обычно встречаются в трэпе.
В текстуальном отношении трэп, как и рэп в целом, тяготеет не только к демонстрации статуса и принадлежности к определенной группе через вещи, но и к предельной прямолинейности высказывания. Рэпер фиксирует собственный жизненный опыт без особой дистанции и символической переработки, демонстрируя тем самым свою реальную исключительность. Этот опыт нередко связан с криминализированной средой, употреблением наркотических веществ, разрушенными формами интимности – теми зонами, которые в жанре могут становиться объектом эстетизации или критики, но редко рефлексируются до конца[5].
При этом классический рэп – прежде всего в своей американской традиции – изначально обладал выраженным критическим сознанием. Его пафос был направлен на левую критику социальных институтов — полиции, судебной системы, образования, — поддерживающих порядок и воспроизводящих неравенство. Даже когда рэп говорил о насилии, криминале или удовольствии, он делал это с позиции субъекта, осознающего собственную маргинальность. Гедонизм здесь не был ценностью сам по себе, а выступал либо формой протеста, либо способом временной компенсации.
Трэп же, особенно в русской его вариации, фиксирует иной сдвиг. Гедонизм и нигилизм здесь закрепляются уже не как осмысленные ценностные установки, а как бессознательно культивируемые формы существования. В мрачной и замкнутой повседневности удовольствие и отрицание перестают быть жестом и становятся средой – наиболее доступными способами самоутверждения и выживания. Именно в этой точке жанр утрачивает критическую дистанцию и начинает воспроизводить собственные условия, что и делает возможным его дальнейшую деформацию изнутри.
В «СУВЕРЕННОМ СИЯНИИ» сдвигаются сами смысловые доминанты трэпа (здесь «основания стиля – церковь и государство»), отражая точку зрения, созвучную современному консервативному мейнстриму. Флекс и прямая речь сохраняются, однако изменяется их содержательное наполнение: рэпер кричит «умрёт народ, признавший нормой проявленья греха» или «от сексизма и объективации общество вылечит только Христос», понтуется тем, что он – «Кравен в футболке “Юнармия”», и предлагает слушателю любоваться «мускулами русских военных».
Однако не стоит предполагать, что таким образом Зангези примыкает к какой-то конкретной идеологии или воспроизводит чьи-то готовые, выхолощенные формулы. Его консервативные треки репрезентируют не идеологему, а личный ангажированный взгляд, соотносящийся с определёнными идеями, существующими в пространстве культуры и истории.
Частая ошибка при анализе политического и эстетического в форме – исключать политическое вообще, считая, что искусство заканчивается там, где художник начинает придерживаться определенных политических идей. Идеологическая включенность автора кажется несовместимой с творчеством, неискренней, ибо отражает не исключительно индивидуальную позицию, а взгляд, созвучный какой-то «заинтересованной» социальной группе или государству.
Но политические идеи не принадлежат государству как таковому: они предшествуют ему и лишь в дальнейшем могут быть присвоены, превращены в идеологические схемы. Государство способно использовать идею и закрепить её в виде символа или лозунга, но сама идея и ангажированность ею остаются по своей природе творческими и потому возможными в искусстве.
Консервативная линия альбома «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» допускает возможность политического и эстетического, делает их однонаправленность ключевой метафорой. Суверенность для Зангези – не только возможность собственной эстетики в трэпе, но и – собственной политической позиции, озвученной в и по сей день преимущественно либеральном или аполитичном дискурсе современной музыки.
Как консервативная тема выражается во флексе Зангези? В трэпе флекс, как правило, не просто демонстрирует личный успех, но одновременно выполняет функцию символического включения: обладание определённой вещью уравнивает рэпера с конкретной социальной группой и подтверждает его принадлежность к ней. Сумка Hermès Birkin, например, в коллекции Cardi Bi важна не столько как материальный объект, сколько как носитель символического капитала – знак доступа к обеспеченным кругам и признания внутри соответствующего социального поля[6].
У Зангези флекс также остаётся способом утвердить личное достижение посредством приобщения к определенному социуму, однако в его случае изменяется само представление о соединяющих человека и общество ценностях. «Успех» перестает сводиться к обладанию, оформляясь как личная включенность в общее – в семью, в веру, в те смыслы, которые в культуре закрепляются как «традиционные». Те надындивидуальные основания личности, через которые человек соотносит себя с более широким целым.

Кадр из клипа Зангези «ЛАГУТЕНКО 2003»
Показательна строка «мой отец военный — вам бы всех таких родителей» из трека «КОНСЕРВАТИВНЫЙ ШИК». Образ «отца-военного» здесь не исчерпывается биографической деталью. Он, с одной стороны, «военный» — это фигура служения, в которой реализуется представление о связи личной судьбы с обществом (или государством). С другой стороны, он «отец» — это фигура преемственности и воспитания, через которую ценность служения передаётся экзистенциально, как часть жизненного опыта.
В этом, возможно, кроется специфика консервативного флекса: он направлен не просто на выход за пределы индивидуального, что в определенном смысле возможность любого флекса, а на включение себя в традицию. Осознавая воспитание «отца-военного», художественное сознание включает в себя опыт предшествующих поколений, признаёт его достоинства и усваивает его как основание своего способа бытия. Именно в этом признании рэпер оказывается как бы «больше себя самого»: его «я» формируется в меньшей мере из личных достижений, и в большей из связи с тем, что было до него и продолжает действовать в нём.
Аналогичным образом работает и обращение к церковному опыту: «о чём с ними говорить, если они не причащаются?» Эта строка не столько выражает уважение к религиозному институту, сколько фиксирует личную включённость в таинство Евхаристии, имеющее в православной традиции предельный экзистенциальный смысл.
Причащение есть форма реального приобщения к Богу и одновременно – к церковному соборному единству. В этом смысле речь идёт о признании такого духовного опыта, который не сводится к индивидуальной вере, но предполагает личное участие в общем, и шире – в божественном. В конце концов, становится ясен сам сдвиг: по-настоящему флексить можно не просто тем, что ты выбрал или чем ты обладаешь, но тем, в ком ты узнал самого себя как сына, как верующего, и в пределе, как человека.
Есть и другие способы развертывания консервативной темы на альбоме – прежде всего, упомянутая ранее прямая речь. Именно она, пожалуй, наиболее наглядно фиксирует сдвиг смысловых доминант трэпа в творчестве Зангези: речь здесь идёт не о разрушении прежних кодов изнутри, а о выдвижении принципиально иной оптики. Так, в треке «ЦЕЛОМУДРИЕ» появляются строки, которые звучат как прямое высказывание, не скрытое ни иронией, ни «трэпом как консилером»:
Раскрепощение психику рушит
Суки есть в рэпе, но в жизни их нет
А если и есть, у них тоже есть души
Весь отношач — поощряемый блуд
Оставляющий вместо доверия вакуум
Леймы всегда под вопросом живут
Не закончится браком — закончится крахом
В этих строках происходит разрыв с одним из устойчивых мотивов трэпа, связанным с эстетизацией сексуальной доступности и редукцией отношений к телесному обмену. Там, где распущенность долгое время функционировала как знак «свободы», Зангези предлагает иной ракурс: сексуальность – не символический ресурс, но источник опустошения и утраты доверия. Характерно и то, что риторическая фигура «суки», привычно лишённая в рэпе субъектности, здесь возвращается к человеческой полноте: у неё тоже есть душа.
Интересно в этом смысле провести параллель между «ЦЕЛОМУДРИЕМ» и треком «АРИЯ АРТУРА ПИРОЖКОВА», в котором, на первый взгляд, проводится противоположная работа – формы разврата не критикуются, а высмеиваются изнутри, выстраивая фантасмагорические сцены с «леопардовыми буферами» звёзд, киборгами и иноагентами.
Среди них даже герой Зангези «начал забывать, какой у него гендер». Однако и здесь ключевым становится уход от эстрадного Вия («Поднимите мне веки! Заплатите мне деньги!») в прямую речь: «Дальше немая сцена, это не моя сцена». Две строки в конце не осуждают и даже не говорят, а просто молчат в ответ. В этом, как кажется, намечается альтернатива, ведь если вся это бесовщина «не его сцена», а всё то же холодное и чужое дыхание современности, то где-то есть – и его.

Кадр из клипа Зангези «ЛАГУТЕНКО 2003»
В чём же заключается альтернатива, которую предлагает Зангези – помимо эстетических смещений и введения консервативных тем? Кажется, что во многом она связана с самим методом его письма. Показательно, что трек «ЗАНГЕЗИ», предполагающий в названии личную исповедь рэпера с литературным псевдонимом, отсылает не к самому Кибереву, но к хлебниковскому образу пророка: «я на битах проповедую, как чернокожие рэперы»[7]. В широком смысле проповедь – это свидетельство, речь, звучащая не о себе, но через себя, – и потому не предполагающая откровенности, психологического самораскрытия.
Именно во взгляде, пропущенном через себя, и заключается сила Зангези. Принципиально важным в треке оказывается обращение к детству, которое для рэпера не убежище от политики, а точка её первичного вторжения в жизнь:
Моё детство кончилось в семь лет, братан, я помню эту дату
На экране Таллин, в нём монумент солдату
Сносят на моих глазах – теперь страна вступает в НАТО
Так впервые я узнал, что значит слово «предатель»
Эти строки, в сущности, фиксируют момент инициации — мир впервые предъявляет себя как расколотый и требующий различения. Важно, что политическое здесь не осваивается задним числом и не оформляется как позиция взрослого сознания. Оно возникает как опыт, пережитый в детстве и потому не подлежащий пересмотру: «Когда детьми мы были, это было ясно и так / Умрёт народ, признавший нормой проявленья греха». В каком-то роде это взгляд, для которого различие между верностью и предательством, допустимым и недопустимым, оказывается очевидным ещё до всякой рефлексии, на интуитивном уровне – в том смысле, в котором о нём говорит средневековая христианская мистика.
При этом «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» едва ли можно мыслить как однонаправленный альбом. Напротив, это живая и насыщенная работа, в которой попытка соединить эстетическое смещение и консервативный пафос постоянно сталкивается с инерцией жанра.
Не всегда Зангези действительно сдвигает смысловые акценты; в ряде моментов он воспроизводит трэп в его актуальном, узнаваемом виде — с мем-аллюзиями («чувствую себя как зебра Марти среди других зебр», «как Катя Пушкарёва после — но выгляжу как Пушкарёва до»), с нарочито рэперскими, нецеломудренными панчами («я обладатель большого пениса – готов его преподнести ко рту») или с привычной для жанра риторической фигурой «суки», лишённой субъектности («рисую фломастером зеленоглазку, суку с глазами цвета шартрёз»). То же касается личной ангажированности, которая не всегда проявляется в прямой речи, но иногда мелькает и в рейдж-байтах, совершенно типичных для трэпа именно в силу своей эпатажности («зайка, ты как Украина – нельзя не завоевать»).
С одной стороны, эта противоречивость свидетельствует о глубокой погружённости Зангези в сам поджанр, без которой любые внутренние сдвиги были бы попросту невозможны. В этом смысле он действительно остаётся исключением, познающим себя и правило. С другой стороны, она обнажает принципиальный вопрос, который «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» лишь намечает, но не разрешает.
Важно сказать, что Зангези своим альбомом прокладывает дорожку для становления консервативного поворота в популярной музыке, подчёркивает своим примером – можно читать суверенный трэп о вере в этом безвоздушном пространстве, можно оседлать трэп как тигра. При этом складывает он её в определенном противоречии или вненаходимости, будучи и автором, и трэпером.
Насколько сама эта противоречивая позиция — одновременное пребывание внутри жанра и попытка работать на его пределе — вообще позволяет говорить о формировании суверенной эстетики? Не остаётся ли трэп как форма лиминальным пространством, в котором автор постоянно балансирует на грани: между искусством и ещё не преодолённым автоматизмом популярной музыки, между переосмыслением и воспроизводством симулякров поджанра? Отвоевывает ли Зангези, действительно, свою территорию в трэпе или попадает в его ловушку? «СУВЕРЕННОЕ СИЯНИЕ» оставляет этот вопрос открытым, фиксируя состояние перехода.
И всё же, при всей противоречивости формы, в альбоме есть нечто, что не распадается вместе с жанром. Пока суверенность трэпа как эстетики остаётся проблемой, суверенность взгляда — то, что удерживается вне жанровых тенденций и трактовок.
Именно этот личный взгляд, сформировавшийся в детстве и воспитании, связывает на альбоме эстетическое и политическое, выступая их внутренним основанием. Он не нуждается в оправданиях, не подражает ни идеологическим кодам, ни жанровым клише. Быть может, верность этому взгляду, из которого вырастают и поэзия, и политика, и делает возможным то суверенное сияние, которое новый альбом Зангези обретает в лучших своих местах.



.svg)




