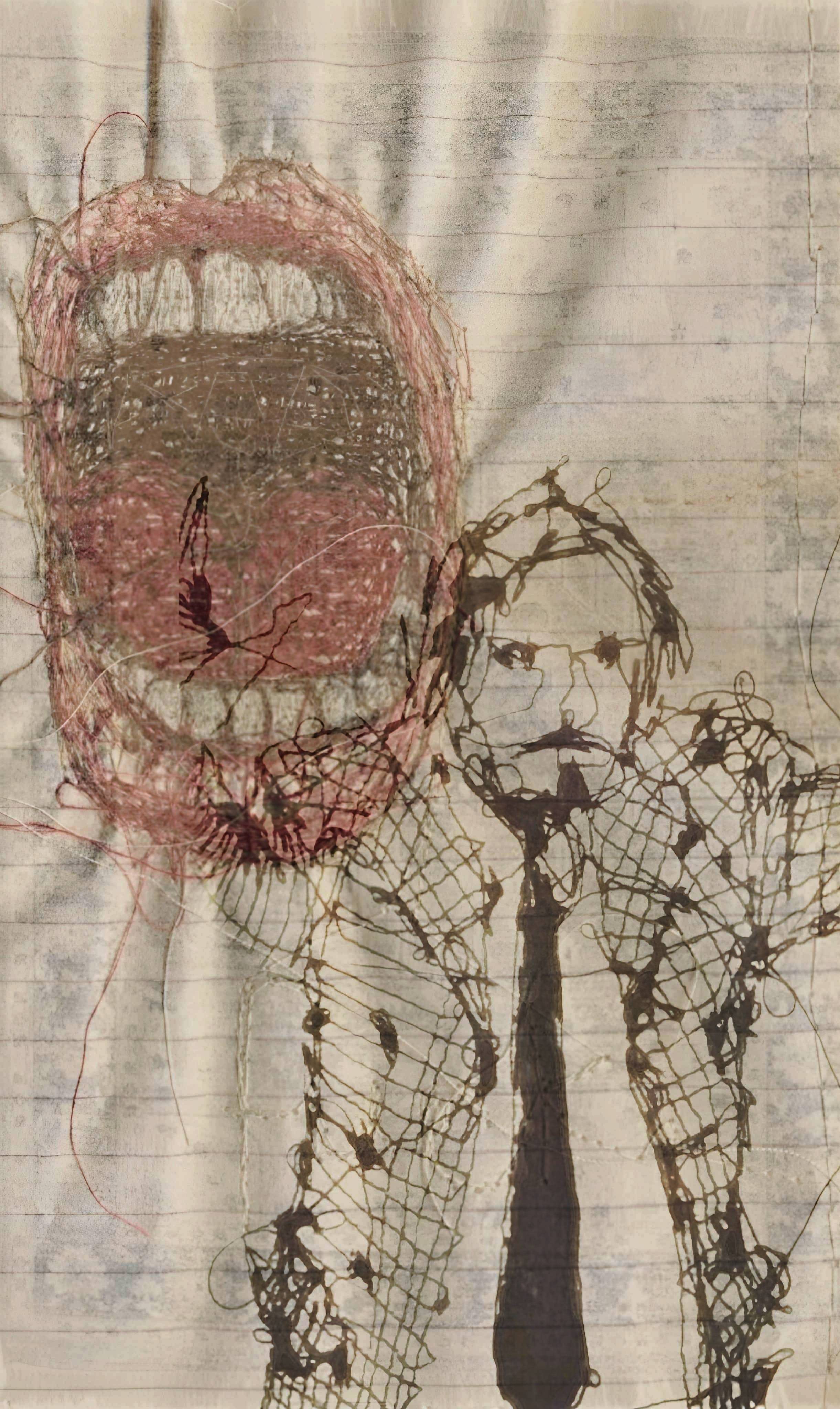Настоящего трэпа пока не случилось, но то ли ещё будет. В его несовершенности – зачаток будущих изменений, отчаянные попытки выйти за пределы риторических фигур, оформиться в качестве отдельной поэтики. Каждый рэпер, и если сузить – трэпер, зачастую бессознательно пытается совершить этот скачок. Он стремится войти в высокий дом блесса, на время определив то, как может выглядеть искусство свэга. Дальше всех, как кажется, продвинулся Зангези[1].
Он обнаружил в трэпе, его автотюновых перегибах возможность новой речи – живой, обоюдоострой, завораживающей. Несмотря на то, что определить его место в популярной русской музыке непросто, я всё же попытаюсь это сделать хоть в каком-то виде: принципиально важно указать направление – обозначить, почему Зангези, оставаясь известным в узких кругах, задает динамику развития поджанра, деформирует его структуру сознательно и уже сейчас.
На мой взгляд, большинство из тех немногочисленных отзывов на творчество Зангези, которые мы имеем на данный момент, негласно сформировали две тенденции понимания его задачи, места в трэпе:
С одной стороны, Зангези расширяет границы образности трэпа, находит в нем сырье для своей поэтики, актуализирует в массовой форме огромный пласт русской и советской песенно-поэтической культуры, соединяя животное начало трэпа с высоким пафосом больших контекстов, бытийствуя на вайбе и снаружи всех измерений. И да, всё это так, но между тем в этих общих формулировках отсутствует сам Зангези – ткните палкой в того рэпера, в чьем творчестве нет деконструкции или автодеструкции «жанра», смешения низкого и высокого, референтности – отсылки сами по себе без понимания их места в пространстве текста есть и у Оксимирона*, и у Славы КПСС, шречная юродивость есть и у рэпера Платины на афише.
По большому счёту всё присутствующее в Зангези на формальном уровне без упоминания его имени либо разваливается, не складывается в феноменологический набросок, либо оказывается отсутствующим. Это, конечно, говорит об особом единящем таланте Даниила Киберева, облагораживающем набившие оскомину средства выразительности, но в то же время оставляет неудовлетворённость в полученном ответе: он ведь не просто одарен, но задает ту личностную напряженность, без которой все сводится к жонглированию приёмами. В чем она заключается?
С другой стороны, Зангези остается пограничной фигурой: «лишний рэпер», «на самом деле вообще не рэпер»[2], а партизан, разведчик, агент службы безопасности поэзии, наследующий подход величин русского панк-андеграунда, интеллектуалов и контркультурщиков – Летова, Усова, Олди, Неумоева, Непомнящего, Д’ркина. Читать трэп для него – техника «вненаходимости»[3], подразумевающая интеграцию в популярную «эстетику», разделение властного дискурса трэп-музыки, её тропов ради подрыва структуры изнутри, ради самого акта живой поэзии как внутреннего кровотечения, «новой искренности», новых смыслов и тому подобного[4].
Главная сложность этой позиции даже не в том, что творчество Даниила не исчерпывается культурным подрывом колониальной формы современной музыки, что Зангези не первый такой и идет вслед за Хаски и Славой КПСС, а в том, что она подразумевает сепарацию субъекта трэпа от его структуры и дискурса – кажется, довольно распространенная спекуляция, которую допускают в разговорах об «интеллектуальных» рэперах. Трэп с подобной точки зрения воспринимается как поджанр, исключающий любую субъектность.
Его структура диктует конкретный шаблон понимания, в котором через артиста говорит рынок, а популярность определяется его попаданием в социальный конструкт, его развоплощением в кислотном звуке. Поэтому появление в поджанре яркого индивидуального голоса, личностного творческого начала требует вынесение его за скобки, сепарацию от всего того уныния на битах, что обычно можно услышать: хороший рэпер становится лишним или вообще не рэпером.
Сознавая, что структура самостоятельно и независимо от обстоятельств диктует восприятие и складывает определенное дискурсивное ожидание для слушателя, а эти восприятие и ожидание, в свою очередь, сопровождаются представлением о внеположенности автора, мы сталкиваемся с парадоксом при попытке эстетического анализа трэпа: чтобы форма трэпа сложилась в некое выразительное целое, необходим автор, но в то же время авторство в трэпе невозможно.
Уместно рассмотреть эту проблему в ключе теории Михаила Бахтина. Он писал, что основным продуктивным отношением автора к структуре является отношение вненаходимости – способность собрать художественное целое путем устранения за пределы произведения и одновременно растворения в его жизни[5]. Созвучно этому в трэпе человек как субъект художественной выразительности возможен только в особом, двойственном положении: он отделён от структуры, формирует её со стороны, и вместе с тем присутствует внутри неё, участвуя в каждом её движении, оживляя саму форму.
Индивидуальность в дискурсе трактуется как инородное тело, как субъектность извне: так, очень часто проще назвать рэпера поэтом, чтобы обозначить его самобытность. И все хоть чем-то отличившиеся рэперы становятся поэтами: оксимирон* поэт, хаски поэт, славакпсс поэт, завет поэт. Зангези, разумеется, тоже, слишком уж ярко сияет, и называть его просто трэпером язык не поворачивается – он есть и поэт, и одновременно рэпер внутри архитектоники поджанра.
На этом можно было бы остановиться, утвердив: «это русский поэт в своих целях использует трэп»[6]. Однако чтобы понять, как прямо сейчас деформируется структура благодаря ему, понять, как индивидуальное видение пронизывает трэп и оформляет его в единое архитектоническое целое, необходимо прекратить говорить категориями «рэпер», «поэт», «контркультурщик». Нужно рассмотреть субъект изнутри.
Здесь я сам себя ловлю на неточности: упомянув ранее «вненаходимость» из известного текста Бахтина[7], я продолжил говорить о контркультурных практиках внутри современной музыки, хотя по-хорошему, никакой контркультуры не может быть. Речь идет не о противостоянии, а о своего рода «повороте в культуре», другой системе координат, то есть оппозиции не внутри структуры какой-либо «официальной культуры», а самой структуре, в том числе и закрепившемуся в дискурсе разделению человека и трэпа – в пользу неразрывности восприятия индивидуальности и популярной музыки, в пользу потенциальной самобытности трэпа, трэп-искусства, если угодно.
Легко обнаружить эту неразрывность в образности Зангези и Вупсень виттон клана[8]: например, долгое время в их творчестве доминировал образы победы «этот долбанный стиль он должен победить в итоге», «но я увидел этот знак и понял: победим», «никто и не заметил победы», пока нечисть в синих джинсах всё проигрывала и проигрывала, а белые зумерки делали антистиль.
Это яркая иллюстрация того, что «вупсени» почти не пользуются негацией – довольно распространенным среди их контркультурных предшественников приемом противопоставления: у того же Усова «счастье – это когда тебя понимают, выходят на улицу с автоматом и убивают», или у Д’ркина «он собой прокормил, значит он победил», а у вас вообще «День ПобедЫ», или у Непомнящего – вся «О нашем поражении».
Этим же пользуется, например, Бабангида, выдавая типа «ну так, пацан, ты личность, а я – никто», и Антихайп с их концептуализацией поражения, разочарования, достаточно вспомнить «никто и никогда не сможет победить жида» или «концептуалист ты уже проиграл». Замечу, что все эти смысловые игры контркультурщиков с категориями счастья, победы, личности на самом деле стремятся к тому исходному содержанию, которое за ними сокрыто: «война проиграна, но поражение рифмуется с выигрышем».
Причина подобных ухищрений – глубокая встроенность в структуру, невозможность сказать прямо, неуместность серьёзности, пафоса, который необходимо разбавлять юмором – то, чему они противостоят на ценностном и эстетическом уровне, оказывается всесильным, замыливает слова, лишает всё смысла – и из этого ищутся выходы путем отрицания, пересборки «исходного».
Негация, работая с образами, осуществляет переворот системы координат как бы внутри этой же системы: все ищут счастья, а «нам с тобой не нужно счастья никогда», все любят, а нам «не время любить», «это перевёрнутая вселенная, нам хорошо там, где им х**во» – из непреодолимости окружающего ада контркультура встает в аксиологическую, экзистенциальную оппозицию к нему.
Вупсень виттон клан и Зангези идут другим путем, с поразительной прямотой заявляя: «мы несём стиль спасительный». Или: «но мы умели так мечтать, что не любить это нельзя». Или: «пожалей меня, я боролся и любил за случайность и покой». Ну и из мошке: «я не одинок в своей задаче, наверное, это и есть нахер счастье» – сравните с усовским разделенным несчастием, один и тот же воздух в разных полюсах.
Это удивительный случай переосмысления как бы в минус-приеме – они делят один вокабуляр с так называемой официальной культурой, вживляются в него, но навязывают ему своё понимание. В автотюновом пении вупсень виттон клана обнажается внутренняя форма слов, их замыленная образность – отсюда действенная сила их пряморечия, богатырский наив, изощренное жизнелюбие: можно называть любовь любовью, жизнь жизнью, победу победой.
Этот пример показывает, что в случае с Зангези уместнее говорить не об оппозиции к культуре, выродившейся в культурку или медийку, без разницы, а о возвращении ей исходного смысла прямым действием.
Вот почему он не контркультурен в привычном смысле слова, а пользуется чем-то наподобие техники «вненаходимости», одновременно вживаясь в трэп и создавая в нём такие противоречия, которые поджанр может разрешить, только эволюционировав: «и рэп мой афера двойного агента»[9].
Если такая речь, такое возвращение оказываются возможными именно в трэпе, то необходимо вслушаться в него: как он звучит, о чём он говорит? Может быть, тогда станет ясно что-то и о Зангези. Слышится автотюн – его функциональное значение далеко за пределами коррекции вокала, мелодического выравнивания.
Автотюн, возможно, стоит понимать как экспансию витальности, эмотивного содержания, ведь он, подобно резонатору, большему, чем ротовая полость, усиливает частоты голоса – кричащего, больного. Речи под автотюном свойственна большая экстатика, обостренность практически нечеловеческого дыхания.
Слышится бит – бочка, её плотный ритм, насыщенный воздух, на который осталось положить голос – обрядовый потенциал очевиден. В этой акустической конструкции – крик, пульс, воздух – возникает большее, чем музыкальная форма.
Кажется, она стремится к ритуальному телу речи, где слово вновь способно не только значить, но действовать. Так я вижу новую речь автотюна: возможность выхода за пределы к архаике импровизируемого заговора, возможность ресакрализации в смысле обнажения ритуальной функции говорения. Слово вновь событие, вновь трепет, проступающий сквозь говорящего – блеск, возникающий «перед нами, над нами, помимо нас».
Безусловно, попытки выйти на территорию архаики сами по себе не новы, неслучайно даже псевдоним Зангези отсылает нас к другой, довольно значимой в культуре попытке реабилитации жречества.
Дело не совсем в этом, а в том, что Киберев ставит трэп перед формообразующим вопросом, он и вупсени единственные в рэпе, кто спрашивают «возможно ли повторить чудо» сейчас, возможно ли обнажить, раскалить речь настолько, чтобы она обрела свою сакральную полноту или хотя бы приблизилась к ней. И как это сделать.
Это сложная задача для популярной музыки. Это же и вопрос, вскруживший голову многим еще в XX веке, спровоцировав поиск различных путей решения. Я приведу хотя бы два, которые можно было бы считать актуальными и для трэпа, как для поэтическо-музыкальной формы:
1. Путь в сторону неартикулированной основы речи, к допонятийному, дограмматическому – чистой акустической энергии речи, здесь и хлебниковские эксперименты, заумь уместна, и мысль Соссюра об анаграммах имени богов в ведийской поэзии, если её продолжать, хотя бы в рамках гипотезы – об афонической звукописи[10];
2. Путь в сторону внутренней формы слова Потебни, смысла, произрастающего из образа, корня, первичного видения[11].
Зангези с его образной избыточностью, маньеристским интересом к экзотическим словам, скорее, вписывается во вторую тенденцию, хотя всё это достаточно условно. Киберев, безусловно, формулирует свой сакральный стиль иначе, можно подробнее прочитать об этом в его «Катехизисе Контркультурщика».
Отдельно мне бы хотелось остановиться на трех сформулированных там чертах: мифологичность, эпическое начало, философичность со скрытой опорой на древние философские и эзотерические доктрины. Я позволю себе объединить эти черты и назвать их обращением к большим контекстам.
Обращаться к большим контекстам – это своего рода «интеллектуальный» тренд русского рэпа, обусловленный общей тенденцией – стремлением прорваться через структуру жанра в область легитимной индивидуальности, связав свой рэп с высшими проявлениями культуры – поэзией, мифом, религией, фольклором. То есть чтобы оправдать его, вывести его на один уровень с традиционными и архаичными видами искусства – в настоящую речь.
Речь требовательна, она может звучать только в параллельных временах, общаться только с мёртвыми и живыми, и чтобы удовлетворить её каприз, оформить жанр как целое, необходима обработка культурного наследия.
Зачастую это происходит за счет референтности, скрытого или прямого цитирования, тематического выбора – активное и многостороннее использование этих приёмов в долгосрочной перспективе может привести к возникновению локального канона и иерархии авторитетов.
Однако русский рэп, несмотря на попытки, часто терпит неудачи в этом нелёгком деле: покажусь субъективным, но таковы для меня, например, большинство треков пирокинезиса, славы кпсс, овсянкина, макулатуры, подавляющая часть песен, пытающаяся каким-то образом аккумулировать проблематику христианства.
Отрыв субъекта от трэпа, помещение его в один ряд с высокой культурой необходимы для утверждения индивидуальности, поскольку трэп её исключает, как было сказано, но, по всей видимости, этих действий недостаточно для полного выхода из структуры: рэпер остается отделенным от условно называемой архаики, устойчивой связи не образуется, вот и получается, что большой контекст – лишь материал, рассматриваемый с профанной, рационалистической точки зрения, лишь фон, а не состояние.
Взгляд на архаику, отделенный от неё самой. Не сакральный стиль, а стиль о сакральном. Может быть, именно поэтому, когда пирокинезис, например, пытается рассуждать о христианской вине, собственном кресте и Пилате, это остается лишь промахом, лишь словами в рамках его умозрительной игры, а «Апокалипсис Андрея» невозможно слушать.
Зангези идёт другим путём – путём эстетического «вживления» в архаику и одновременно выходом из самого себя – это и есть поэтическая в высшем смысле слова задача – принести себя в жертву и ощутить принципиально другое состояние: экстаз, победу, возможность спасения. Овнешнить себя в том смысле, в котором об этом говорил Новалис: потерять себя, унизить, пройти стадии отстранения, и затем узнать себя, и внемлить себе[12].
Вупсень виттон клан ищет других состояний сознания в трэпе, в потенциально ритуальной акустике, вместе с тем культивируя в себе трагически пьяное, рассеянное, разъяренное. Изменив себя, в каком-то смысле изменив себе, доверившись, подчинившись подъёмной силе большого контекста – мифа, поэзии – они очень чутко вплетают его в свой трэп.
Как поэты, они говорят «чужими словами», их субъектность – это субъектность медиума. Вот почему в ранее обозначенной «вненаходимости» по отношению к трэпу обнаруживается та же чисто поэтическая интуиция: их сверхзадача – не утверждение себя, своей культуры супротив медийки или казенщины, а реабилитация больших идей, возвращение исходного смысла искусству.
И неудивительно в этом смысле, что они используют современность в качестве материала утверждения архаики здесь и сейчас, её транспортировки, а не пытаются, как их коллеги, осовременить архаику, встроив её в свою умозрительную структуру.
На самом деле, главное их достоинство – это вера, искренняя, безусловная, практически детская вера в дружбу, нежность, печаль, в силу образности – в то, что ты совершаешь своим путем ангелический выбор, вспоминая слова Непомнящего, и ты ответственен за свое стремление, за свою песню как «блудную сестру молитвы».
Именно так открывается визионерство как завороженное смотрение, естественная мистика, растворение в опыте, который для тебя всегда откровенен и таинственен.
Возникает и эпическое начало, уместный мифологизм, это громкое и соразмерное «я даю вам этот пафос, потому что есть». Так получается арт-панк-трэп.
Рисуются картины, где Одиссей слышит автотюн сирен и не возвращается с войны, Орфей поет о том, как детям в аду вайбово, и, вроде, самолетик со строфой Гомера пронзает зверя, но лампочка рядом с кроватью горит погребальным костром, и непонятно как жить, когда на горизонте сердца ядерный цветок, но очевидно — оставаться человеком, вот что по плечу.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Изначально я просто думал о поэзии как о нерелигиозном агенте трансцендентного в связи с Леней Губановым и его манифестирующим «крестить поэму не в реке, а в речи». Зангези, следуя за эссеистическими находками Головина[13], попытался показать на своем примере, что любую секулярную структуру, например, трэп, можно повернуть в эту сторону – в сторону ресакрализации, обращая таким образом его в искусство, возвращая ему самость.
Называть просто искусство сакральным или трансцендентным я не берусь, однако, наверное, стоит допустить наличие в нем потенции столкновения с надындивидуальным, с языком, фольклором, с некоторым неразрывным, единым законом, который задает основу для осмысления индивидуального, частного, дольнего.
Я не буду развивать эту мысль сейчас. Для меня интереснее сделать подобное допущение и посмотреть на измененную форму рэпа, сила которой переживается как трепет, событие, посмотреть на её «провалы в вечность», выражаясь словами Седаковой, проще говоря, увидеть имплицитно заложенный в неё рецидив культуры. Разберём на примере двух песен Зангези – «Орландина» (2021) и «Леди Z» (2024).
Для меня эти песни об одной хронологии, двух связанных биографических точках, не в смысле материально-локализованных перипетий, но биографии души – переживание мистического опыта, соприкосновение с женским космосом, темнота, расщепление личности и перерождение.
Возникла подобная мысль из схожести рефренов в песнях: «Где, говорю, тебя я видел? Кто, мне скажи, тебя обидел, забыл тебя?» («Орландина», прямая цитата из одноименной песни Федорова и Хвостенко) и «Злая заря, где я видел тебя?» («Леди Z»).
Будь то простое совпадение, я бы здесь и остановился, но вопрос довольно конкретный и вызывающий – действительно, где он её видел? Он забыл. Он не мог её видеть. Вместе с тем, всё в нём жаждало встречи с ней – «где я видел тебя» доносится как бы из-за порога экзистенции, из до-рождения.
Это проступающий через забвение образ, воспоминание, выпадающее из памяти, отголосок небытия. «Знаешь, что сам меня обидел, забыл меня?» – но как он мог обидеть? И кого тогда он обидел, кто с ним говорит? Сивилла, наркоманка, коломбина – мало, что приводит к пониманию.
Почему именно женщина? В архаических структурах мышления женщина связывается с границей, переходом: она сохраняет связь со сверхъестественными силами, с иномирием, она невеста из мрака и смерти, соединяющая в себе неподконтрольность, разрушительность и опасность – представление угрозы лишь усугубляется с возникновением моногамной семьи патриархального типа.
Этот, в сущности, мифологический, фольклорный архетип пронизывает всю европейскую культуру: женщина как возможный источник опасности и как одержимость, как таинственный другой: Саломея, темная леди, фам фаталь. Он соблюдается и в Орландине, «чарующей и жуткой, как сухоруковская улыбка». Губительная маска вельзевула «вчера одевалась в нигредо» – ее укоренённость в расщеплении, в черном алхимическом начале.
О разложении уже было локально упомянуто в контексте поэтического шага: шаг в бездну, отказ от мирского, полная дезинтеграция личности. Подобное инициатическое страдание встречается и в шаманских практиках как наблюдение за распадом собственной телесности, за смертью, ведущей к посвящению. Женская фигура своего рода психопомп, проводник между мирами, и Орландина, и Леди Z – не адресаты, но носители трансцендентного, медиумы.
Однако даже как адресаты из иномирия, как объекты называния, взывания, они важны для возникновения субъективности говорящего, ибо последний, об этом точно пишет Бахтин, нуждается в другом, как в форме и смысле собственного существования.
В «Орландине» складывается пространство диалога – как в оригинале, встреча, вопрошания, при этом сквозь женское измерение, его активное начало должна определить самость рэпера. В «Разночинской музыке» Киберев еще не использует автотюн, но уже прибегает к особому оформлению своей речи – высокий тембр, то ли по-федоровски, то ли по-губановски – в контексте «Орландины» это словно создает акустическую среду для «входа» женского голоса.
Даже там, где Она не говорит напрямую, Она звучит как модуляция: внеземные, феминные интонации, когда-то уже об этом было сказано. «Орландина» таким образом может быть речевой моделью, искомой речью в состоянии аффекта, транса.
Её образная изменчивость отражает поиск этого состояния: «во что хочешь оденься – в трудное детство, в сиюминутное декадентство», «или просто тверди свою мантру, пока не распадёшься на ноты первичной мелодии», но останься со мной, найдись окончательно, признайся, что судьба моя, покажи, куда плыть, я внемлю тебе «бесхозным ребёнком, прильнувшим к аквариуму». В логике христианской алхимии не вернуться из мрака – самое страшное, что может случиться.
Так, можно расслышать серы запах и гул огня. Сера неслучайна как сульфур, как неостановимое горение. Зангези зависает на границе, оставаясь разобранным, отчужденным – это психотическая рана, прерванный обряд, ведущий к немоте, темная ночь души.
Через два года Зангези произнесет довольно загадочное: «мне больше не надо орландин». Если понимать буквально, то все прозрачно: он расщеплен, он сам из мрака, ему не нужно темноты. Если же нет, то это куда интереснее: может быть, новиковская тёмная личность больше не подходит, потому что в переломах себя обнаружено зияние? Достигнуто альбедо?
Мне сложно удовлетворить свой интерес в этом вопросе. Но предположу, что Леди Z является конструктивным продолжением, новым днем, записанным в дневнике духа Зангези. «Моё сердце стало ледяной пушкой, шаром с искусственным снегом» – алхимически здесь уже несоответствие, монтажная склейка, никакой путрефакции. Что снег здесь? Почему он искусственный? Можно вспомнить «остывало эго под слоем снега», но здешний снег иной, снег – фальшь, снег – плацебо. Тем не менее, не к снегу ли стремится пепел?
Кажется, что начинается всё с попытки схватить упущенную стадию, обнаружить в себе распад – отсюда номинации, метаморфозы, множественность я, то Виктор Фриз, то Харви Дент. Отсюда хочется очутиться в центре тяжести голоса, в точке внутреннего сбора, где «холмы и подсолнухи в зоне крушения, кладбище локомотивов, парк культуры и отдыха после взрыва».
Где другая тональность – тишина и холод, и можно простить себе внутренний треск, двуголосие, узнать себя и «начать жить в свои двадцать три». Зангези как бы указывает, что «это» и есть Леди Z. Но что «это»? Мы остаемся на грани узнавания.
Путь преграждает «ангел-август без знаков отличия». Мы вне зоны досягаемости. И только образность наш путь, единственная возможная память для нас, память до нас самих. Зрение вкушает тишину до начала имени, мысли. Всё, что мы знаем о Леди Z – из чужих уст, всё слышимо и всё – образ, коллаж: Мария и Анабелла, француженка, гречанка и еврейка с узкими скулами, стилем тропических деревьев.
Она не приходит, но таится, из тьмы, неведения тянется нить её власти. Мы ждем, воображая – какова она, как она собирается из тени, как «начинают звезды трогать», как «начинаются глаза», вспоминая одно стихотворение.
Мы понимаем по-настоящему, что к чему, когда становится видно зарю, и является «ангел-стиляга с крыльями из вельвета», и внутри возникает новое качество – можно «видеть сквозь стены», слышать, различать неуловимое. Всё иначе отныне, в пределах тьмы сияние – ты на нейтральной полосе.
И нет другого выбора, ты работаешь в ночные смены, хранишь возможность утра, живёшь в обещании света, зная, что здесь проходит трещина, а значит может проступить новое. И только так.
*Исполнитель Оксимирон (Мирон Янович Федоров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.



.svg)