БЕСЕДА ПЕРВАЯ. РУСЛАН МОРЯК

У меня есть знакомый моряк. Он водит танкер-химовоз из Индийского океана через Barbara Channel в Ванкувер. Там он берёт безалкогольное пиво. Выйдя обратно в открытый океан, он ещё две недели его смакует, покуда не доберётся до другого порта, скажем, в Малайзии. В портах он смотрит кино. Как раз об этом мы и говорили за вечерним застольем.
Руслан всю жизнь жил практически без родителей и кочевал между интернатами. Правда, отец всё-таки успел научить его паять, а мама – варить кашу из риса с пшеном в вонючем подсолнечном масле. Книг о море он никогда не читал. Когда оказался в училище, ему дали выбор: «судомеханик» или «судоводитель».
Как говорит Руслан, в этот момент он потерял контроль. Воображение нарисовало ему обгорелого, пахнущего техническим спиртом мужика в рваной спецовке, и он выбрал суда не чинить, а водить. Теперь он капитан. При этом всех на корабле стрижёт ножницами. На субординацию не влияет. Большая часть экипажа – говорят на русском. Есть филиппинские матросы. Они стричься приходят первыми.
Тогда было застолье. Мы сидели на втором этаже дома типа ЖАКТ, которые с прошлого века обычно стоят в приазовских городах: это хорошие частные дома, маленькие поместья, которые внутри разделены между разными семьями. Мы ели сырные шарики из Киргизии, солёные, прогорклые, и запивали чаем.
И он припёр меня к стенке.
Во-первых, я не знал о большинстве фильмов, которые он взахлёб смотрел. Мои познания кончились где-то на румынском андерграунде нулевых, затем, спустя несколько минут, я услышал «Хоакин Феникс» и убедился, что он говорит на человеческом языке. Но худшее было впереди. Он спросил меня... За столом каждый держит слово, так заведено: это не только предвосхищает бокал, но и ему предшествует даже без предвосхищения.
И я здесь почувствовал необходимость выступить от лица цеха, к которому хотя и не принадлежу по закону (увы, у нас в стране нет профсоюзов), но принадлежу по факту: ведь я практикую. Просто не всякий адвокат Генрих Падва или Генри Резник, не всякий деспот Пол Пот или Пиночет и не всякий сценарист целовался на брудершафт с мамой Мэрилин Монро.
Моего моряка волновал, в сущности, лишь один вопрос: «А где нерв-то? Переживать за кого?»
Гордиев узел этого вопроса невозможно разрубить даже штурвалом Летучего Голландца, поэтому я пустился в культурологические и антропософские нюансы, в которые посвящу теперь и вас.
Сперва о предпосылках. Культура не только произрастает сама, но и мы растим её. Если бы эта заметка мне приснилась, культура взяла бы мой голос напрокат. Но я пишу это наяву, в трезвости и поте лица. Хорошо сказал Маяк: «Надо вырвать радость у грядущих дней». Этим и займёмся. Мы любим тот миг, в который живём, но не меньше мы любим, когда миг проходит, призывать следующий. На Востоке вся жизнь – один миг. На Западе этих мигов много, и они дискретны, их ловят. В первом случае жизнь – это взмах крыльев бабочки, во втором – ловля бабочки в сачок. Вот и вся разница.
Вам может показаться, что я кокетничаю, но всё это время я отвечал на вопрос моряка. Он алчет парадокса. В авторском кино, которое он смотрит в порту Ванкувера, постоянно ловят бабочек. Мы в России загнаны в угол потому, что мы ловим бабочку, при этом сами ею являемся в момент взмаха крыльев. Мы знаем миг с двух сторон. Оттого сложно соперничать с нашими заокеанскими кунаками. Мы можем быть на одной дистанции, в одной системе наград, но шкалы внутри у нас разные.
В сухом остатке ответ был такой. Я спросил, любит ли Руслан Сэлинджера и Холдена Колфилда. Когда он сказал «э-э-э-э-э», я понял: в море другие законы, это другой мир. Мы на суше более заземлены и думаем о всяких филологических тонкостях. Пытаемся вскрыть в гармонии шума волн и огней святого Эльма понятную алгебру для школяра. И оттого говорим: «сериал «Чёрная весна» – это прорыв, потому что так же дико».
Дело же не в этом. Вероятно, банка ванкуверского пива, пусть и безалкогольного, расставит всё по местам без лишней мудрости.
Где-то в этот самый момент рыбак Саша удит с лодки под названием «Архимед». С ним мы тоже беседовали…
БЕСЕДА ВТОРАЯ. ЯХТСМЕН СЕРГЕЙ И ХУДОЖНИК САША

Думаю, он сразу понял, что арабское сальто я не сделаю. Тем ценнее то милосердие, с которым он смотрел, как я подхожу к носу яхты и примериваюсь к воде. На её глади плавали полёгшие стаями мёртвые комары, похожие на клинья журавлей. Но, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль во рту...
— Сергей, простите, а как ваше отчество? — Там комары...
— Ничего страшного. Китайцы ими завтракают, — и добавил, — Зовите меня Сергей.
Мы плыли на яхте «Лиссар». На борту были женщины. Сергей взобрался на нос и нырнул в воду рыбкой, гладко, неслышно прорезав игольное ушко между крошечными волнами. Пока он не смотрел, я набрал воздуха, встал в стойку и прыгнул... Получилось боком, в стиле собаки-вратаря, и я шарахнулся животом. Лицо Сергея появилось из-под воды вместе со счастливой улыбкой. Я сделал вид, что прыжок прошёл, как я и запланировал.
Неподалёку стояла плавучая станция. Она высасывала со дна моря ил. Я ещё пару раз взошёл на нос и бесславно сиганул вниз. Правда, один раз я отбил себе спину, а не живот – когда делал сальто назад.
На борту Сергей позвал меня к штурвалу. Я встал у руля, и мы разговорились. В такие моменты слушаешь особенно внимательно, даже если рассказывают про то, как делать тыквенный пирог в духовом отсеке газовой плиты «Терек». Зрачки расширены, булки сжаты, дыхание учащённое. Казалось бы, всего лишь встал за штурвал, а ощущения такие, как будто влюбился в двухметровую чемпионку по академической гребле.
Я чуть не напоролся на буёк и от страха не вырвал штурвал из палубы. Вовремя руки Сергея оказались на нём, иначе я бы потопил корабль вместе с женщинами, которым бы перед смертью пришлось отобедать комарами. Сергей выправил курс, дёрнул верёвку, распустившую парус, и мы пошли глиссировать.
Дома его ждала жена. Дочь на лето уехала. На сегодня его рабочий день ещё не кончался: ему предстояло свозить в море ещё кого-то. Кажется, так и должен выглядеть моряк на отдыхе по выслуге лет. Думал: спросить о плавучих станциях или нет? Что если я подплыву к одной из них и крикну «полундра»? Они не имеют право не спасти меня, и тогда я попаду на борт режимного судна. Это возможно?
— Я познакомился с женой на опере-буфф, — сказал Сергей, отвечая на вопрос кого-то другого. — Я к театру отношусь осторожно. Его задача – вызывать чувства, взволновать. И делается это по-разному. Подчас не очень тонко, не вполне аккуратно... Но тот спектакль был хорош. На танцах после него я был готовенький, и тут пришла она...
Он влюбился в неё, они женились, и он не стал ходить в море далеко. Сергей – пограничный человек, между сушей и водой. Я сказал ему, что он Харон.
— Ну, не балуй...
Кроме женщин на борту был художник, Саша. Он пишет миниатюры. Однажды мы сидели за столом и ели арбуз – а я так упился, что у меня заложило уши, поэтому я прослушал его рассуждение о смене парадигмы при переходе с импрессионизма к экспрессионизму. А теперь мы были двое мужчин на борту.
Сергей был капитан, а мы всё равно что береговая охрана. С этим художником мы поладили – он стал относиться ко мне отечески. И о такой блажи, как кино, я говорил с ним, а не с Сергеем. Сергей – он сам как кино. Какой тут Тонино Гуэрра? Настоящая репетиция оркестра – это как он подтягивает брамселя.
Словом, я всё намеревался обратить художника обратно в импрессионизм: «Нарисуй, мол, Сергея». Он сфотографировал...
На причале, привязывая яхту, Сергей разговорился с Александром – таким же дедом, как и он, поджарым и упругим, как пемза. Александр собирал свою яхту на рыбалку. Всю неделю я срывал утренний поход на рыбу с товарищем, потому что не хотел рано вставать, и не зря: теперь я был выспавшимся, а рыбак и удочки нашли меня сами.
Вот только они обнялись с Сергеем и ушли в порт. А я пошёл рука об руку с художником.
— Да... Вот это мой вайб, — сказал он.
— Чей?
— Ну, Александра, который рыбак.
Дальше шли молча. И я подумал: мой вайб – это Сергей. И может быть, так и строятся отношения между людьми. Александр и Сергей, художник и я.
А что там с кино... Да чёрт с ним с этим кино!
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ. ИСПОВЕДНИК ОТЕЦ И.
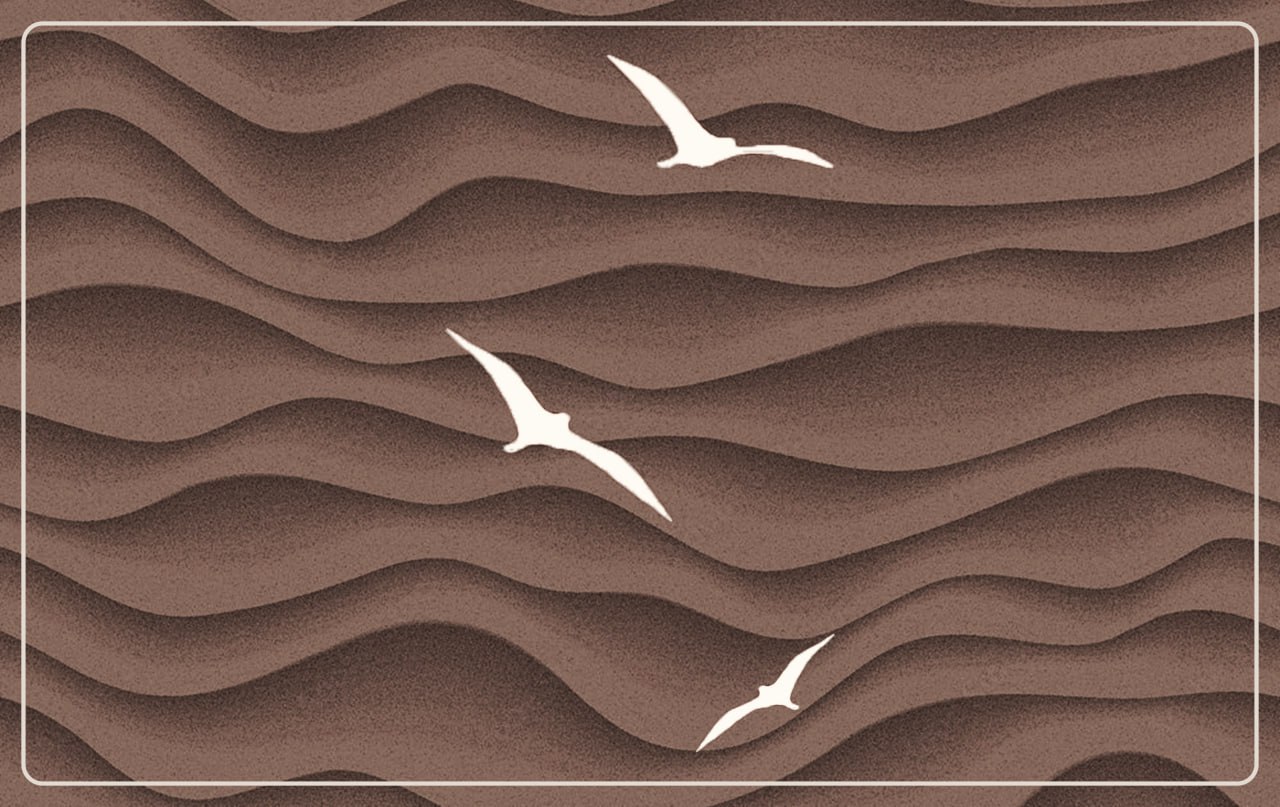
Шёл и думал: диалог... Кто он будет?
Монархисту скажу: «Я безлошадный крестьянин, склонный к феодальным отношениям...» А что если советский тип? Тогда зайду со стороны челюскинцев: мол, горячо моё сердце, да боюсь, что остудит кто... Бумеру – понятно: «Я предохраняюсь»; этого будет вполне достаточно. А вдруг зумер? Задачка. Некоторое время пинал камешек на дороге, потом спросил у спутницы, во сколько она проколола уши, а тут возник и ответ: «Я к вам пришёл, как дефолтный пятиклассник: по фану...»
Церковь стояла среди кладбища. Отец И. стоял посреди церкви. Он посмотрел на мои бриджи и поморщился. Я рассказал, как в пятом классе украл пельмени, а там как раз была акция – в каждой десятой пачке была запрятана 50-рублёвая купюра; таким образом, получалось, я украл ещё и деньги. Внутренне я ждал, что отец И. после этого не будет слушать. Но он сказал: «А что-нибудь посерьёзнее?».
Тогда я рассказал, как хоронил на пляже птицу. Её вынесло на берег волной, она уже издыхала. Я попытался её утопить, но не смог. Тогда мы просто оглушили её камнем и засыпали песком. Я несколько дней ходил под впечатлением, состоящим из волнения и удивления. И я не мог понять, правильно ли поступил. С одной стороны, она умирала, и мы ей помогли. С другой, я вспомнил детскую страшилку про районного хулигана, который убивал воробьёв, чтобы потом, разъезжая по улицам на бээмиксе, закидывать их трупы в сумки случайных прохожих...
Отец И. всё это выслушал и дал определение нашей с ним беседе: «Пересуды». Он исповедовал весь вечер. Это регулярное занятие для него. Я спросил, не скучно ли ему. «Это моё призвание... и работа», — сказал он.
После исповеди на лавочке моя спутница поделилась впечатлениями о состоявшемся у неё разговоре. Я признался ей, что влюблён. По-видимому, я надышался фимиамом. Ноги подкашивались. А отец И. всё стоял где-то в глубине храма и слушал ещё какого-то человека.
По слухам, однажды отец И. освящал автомобиль. Владельцу он сказал примерно следующее: «Освятить освящу, но вы машину продайте, нехорошая она». Через некоторое время машина попала в аварию, разбилась, а водитель погиб. Как ни посмотри на эту историю, а что-то от макабрических историй Латинской Америки в ней есть. Наверное, надо было сказать ему: «Señor, por favor, disculpeme». Но звали его не Игнасио...
Однако один местный инженер признался мне, что никогда не видел Медового Спаса. И мы пошли в эту церковь снова. Отца И. не было. На крыльце крестилась одинокая бабушка в косынке. Посмотрев на нас, она сказала: «Сходите туда», – и указала пальцем на север. Я уже понимал, что мы придём вовремя, поскольку нас направили увидеть событие, которое без нас не случится, потому что мы его непосредственные участники. Когда мы пришли, у дуба стоял милиционер. Он кусал наливное белое яблоко. Вдруг у него зазвонил телефон, он взял трубку и, что-то говоря про лук порей, пошёл в магазин, а перед нами возник блистающий солнцем купол.
— Мы живём в эпоху Возрождения, — сказал инженер.
Я всё ещё чувствую, что нагружен своим телом, а потому не поспешил с ним согласиться. Он же был легконог, юрок и бегл. Пока я смотрел на горшочек с мёдом в руках многодетного отца, он убежал на стройку и стал болтать с каменщиками. Вернулся он счастливый и сказал: «Я на сегодня всё сделал». В этот момент из-за его спины появился священник в пёстрых одеяниях и плеснул на нас святой водой. Именно с инженером птицу мы и хоронили. Это была чайка. Теперь мне полегчало.
Ту бабушку я потом видел ещё однажды, в трамвае. Я сел на задние сиденья, чтобы проследить за ней. Она вышла у пляжа, и я пошёл за ней. Но в песках её потерял. Ночью, оставшись там спать, как мне потом сказали, я чудом избежал уховёрток, которые могли заползти мне в уши.
Отец И. звал приходить ещё. Сказал, будет польза. Уши у меня остались, поэтому я услышал.
БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ. ВРАЧ ОДИССЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кто-то оторвал в подъезде шеренгу почтовых ящиков. И все знали, кто: пропойца с улицы Фрунзе. Каждый раз, как он отправляется в тёмные хтонические леса ловить белок, чтобы вместе посмотреть на бриллиантовые грани орешков, случается его явление народу на одной из центральных улиц города... где он и отрывает почтовые ящики. О смысле этого поступка гадают. Но в этот раз сюжет слегка усложнился. На обнажившейся стене обнаружилась надпись: «Здесь был Одиссей Михайлович».
Я спросил у местной художницы Сони, моей подруги, кто такой Одиссей Михайлович. Она вывела меня из мастерской, мы прошли два поворота, она постучала в дверь, и нам открыл старик с сияющей лысиной. Я сразу заметил тонкие пальцы и при этом натруженную, шершавую на вид кожу рук...
...Соня лежала на кушетке, а он мял ей позвонки. И вот она встала, набросила халатик и ушла. А мне указали рукой на кушетку. Я и лёг...
Одиссей Михайлович приехал из Фессалоник. Это такой город, про который в Библии написано, что там жили люди не особо широких взглядов и слов апостолов поэтому они не поняли. Одиссей Михайлович тоже производил впечатление язычника. Говорил в основном руками. Но когда я стал задавать вопросы, всё-таки охотно отвечал.
Сказал, что впервые приехал в Россию во время Олимпиады-80. Он был пловцом-резервистом. А уже потом, когда женился и работа в клинике надоела, решил перебраться сюда. Я не выдержал и спросил Одиссея Михайловича, как зовут его детей. Тем временем ребро доброй ладони мастера мерно проходило вдоль моего позвоночника. Было хорошо.
— Миша и Афина.
В городе про него говорили разное. Что он шарлатан и иллюзионист. Что он вообще не грек, а инопланетянин. Причина: в его медицинском журнале записаны какие-то формулы и есть зарисовки анатомии человеческих тел. А здесь, после ящиков, ещё появилась версия, что это он руководит пропойцей Фрунзе. Этому даже нашли термин: «византийство».
— Ерунда! Хотя термин забавный. Запад и восток одновременно. В этом что-то есть.
Правда, он признался, как раз когда я уже вставал с кушетки с намятыми боками, что этого пропойцу знает. Это некий Рома по кличке Бык, и он тоже ходит к Одиссею на приём.
— Я ему бесплатно спину лечу. Но он всё экзальтированно воспринимает. Считает, что я античный герой. И думает, что, пересчитывая позвонки, я его кодирую от алкоголя... А это не так, увы.
Я уже нашёл водолазку, мою любимую синюю, цвета морской волны, омывавшей Пелеева сына. Хотелось пошутить, мол, Одиссей Михалыч, а вы в курсах, как там у Ахиллеса дела? Пятки ему по четвергам массажируете?
— О, молодой человек, не так быстро. Я должен вас послушать.
Он быстро достал стетоскоп.
— Непрямая аускультация на ход ноги, так сказать... А в мои молодые годы она была прямой, кстати. Давно это было.
Прямая аускультация, как я потом прочитал в интернете, – это когда слушают пациента ухом.
Ящики в подъезде повесили обратно. А надпись никто почему-то не стёр.
Так пропойца Рома по кличке Бык познакомил меня с Одиссеем. История реальная. Расскажешь – не поверят. А что касается надписи… Кто оставил её, так и осталось для всех загадкой.
БЕСЕДА ПЯТАЯ. МАЛЬЧИК МИРОСЛАВ

Чудо всемирной паутины: был май, имэйл распух от неотвеченных сообщений, и мы с Миром на маленьком, допотопном нетбуке подрубились к вай-фаю кондитерской, кассирше которой я подарил апельсин, из-за чего она решила, что я женихаюсь. Мир нашёл через латиноамериканские шлюзы газету Marca, кажется, и мы стали читать по-испански статью про сборную Пуэрто-Рико по волейболу.
Но он сдался первый.
— Ты победил. Я не могу жевать эту кашу.
Я праздновал триумф. В уме я надел венок из одуванчиков себе на голову и поклонился свету зари, произнеся слова благодарности Господу за так щедро дарованную мне победу.
Косой взор девчонки с зубочисткой промеж багряных, как расписной терем, губ – через окно – прямо на нас – согнувшихся в крючковатых позах в попытке поймать на блютуз умную колонку – сотворил чудесное превращение: мы были маленькими людьми в маленьком городе, а стали эпическими героями, укрощающими стихию.
Наконец Мир включил колонку, и из неё шандарахнула песня «Бездельник» группы «Кино». Он достал спички, которые ему принесла молодая учительница, керамист, из похода по Калужской области, и ударил одну из них об чиркаш. Мы, притаившись, стали смотреть на опадающее, как банный халат, пламечко. Слегка запахло серой. Должно быть, прочищалась карма наших карманов. На мне были сиреневые беговые штаны, а Мир ходил в шортах.
Мы стояли, как старообрядцы, в кромешной темноте, пялясь на огонь.
И тут потолочная лампа лопнула и обрызгала комнату светом. Мы стояли посреди мастерской, уставленной глиняными животными, заготовками для посуды на обжиг и книгами, выпущенными полвека назад в рамках программы «литература советских республик».
На нас смотрела Соня, или Сонич, как её здесь все называют, или София, как её называет мой экзальтированный друг Манин, истово верующий в то, что девушки с этим именем носят в себе вековую гностически-метафизическую истину о мире. Чему подтверждение было передо мною... Мир, Мирослав, был её любимым учеником, и самым способным, и самым озорным.
У него было только два минуса, на мой вкус: он не признавал никакую музыку, кроме Виктора Цоя, и всюду таскал перочинный ножик, бог весть зачем, думал я, пока несколькими часами позднее он не пригодился, чтобы срезать плёнку с сосисок, а потом выскоблить острие на палке, чтобы нанизать сосиску для жарки в костре...
А сейчас Мир затаранил на полке сборник стихов латышского поэта Ояра Вациетиса. Я аж присвистнул дыркой в зубах. И тут же вспомнил о девчонке с зубочисткой за окном и посмотрел на улицу, но её там не было. Перед нами стояла Соня, немного злая, что мы без спросу залезли в обитель её трудов. Она пришла рисовать.
Мы тут же сели перед ней, и она набросала наши портреты. Правда, посреди акта Мир убежал в туалет по-большому, прихватив книгу Вациетиса. Через десять минут он крикнул из туалета, запрятанного в глубине коридора: «Люди добрые, нет ли у вас влажных салфеток?». И следом, обращаясь к колонке, сразу же: «Алиса, найди мне влажные салфетки!».
Алиса вновь включила Цоя.



.svg)




