I.ВВЕДЕНИЕ
«Накормила-напоила и спать уложила» – известная речевая тема[1] эпизода действительного или мнимого «гостеприимства» в сюжетах русской волшебной сказки, в которых фигурирует Баба Яга в различных её типологических ипостасях: нередко встречаясь, она вплетается в структуру образа персонажа, заведомо ожидается как необходимый компонент его художественной организации, выступает обязательным элементом его представления в реализации некоторого сюжетного узора – морфологическим общим местом, вне которого персонаж как таковой не мыслится.
Эта речевая тема, по своему лексическому постоянству бытующая куда скорее в качестве формулы, обнаруживается в сюжетах (и их вариантах), особенно значимых в смысле презентации фигуры Яги в русской сказочной прозе: «Баба Яга», «Василиса Прекрасная», «Мужик и Настасья Адовна», «Жар-птица», «Пёрышко Финиста ясна сокола», «О молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде», «Царевна-лягушка», «Баба Яга и Заморышек», а также в сказке о том, как Яга сына женила.
При всей устойчивости эта формула, конструктивно необходимая для интегрального образа Яги в отечественном фольклоре, реализуя среди прочих речевых тем и мотивов названный эпизод, подчас видоизменяется, распространяется ещё и другим, равно устойчивым и повторяющимся в отношении персонажа действием – баней: «Баба-яга накормила их, напоила, в баню сводила»[2], «Яга-баба тотчас вскочила, собрала на стол, напоила, накормила царевича и в бане выпарила и стала опять спрашивать»[3], «Баба-яга накормила его, напоила, в бане выпарила; а царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую»[4], и т.д.
Есть сюжеты, в которых баня, обычно включаемая в обозначенную формулу, предстает в качестве единственного проявления «гостеприимства» Яги в замещение остальных компонентов этой формулы, переводя последнюю при сохранении эпизода, маркированного только банными мероприятиями, в имплицитное качество: «Очень хорошо, вот я дотакаю, сядь-ка потаки мне, а я пойду тебе истоплю баньку и тебя с дорожки попарю»[5].
Имеются сюжеты, где баня упоминается в качестве одной из задач-испытаний Яги, конфигурация которых также свидетельствует об имплицитном повторении все той же формулы. Так, в сказке «Падчерица и мачихина дочка», записанной в Казани И. Худяковым, падчерица, исполняя волю мачехи, обнаруживает избу Яги, которая, узнав о проблеме героини, прежде чем выдать красный сундук с золотом, задаёт ей «топить баню» человеческими костями, воды натаскать, используя решето, и, наконец, «поставить самовар» – обе они, благодаря воробью-помощнику, поспособствовавшему успешному выполнению задач падчерицей, и вымылись, и «напились чаю»[6].
Баня употребляется и вне означенной формулы вообще, без каких-либо намёков на неё – исключительно в смысле одной из задач, как это обнаруживается в сборнике А. Афанасьева в сказке «Баба Яга», в варианте, записанном в Переславль-Залесском уезде Н. Бодровым: «Ну, теперь поди – вымой меня в бане». Впрочем, в другом варианте этой же сказки, записанном в Бобровском уезде Воронежской губернии, Яга задаёт некоей работнице заблаговременно, пока падчерица ткет рубашку, топить баню, которая должна в качестве апогея проявляемого мнимого гостеприимства «тетушки», давшей героине иголку и нитку, завершить пребывание последней в избе: «Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею позавтракать».
Если обозначенная формула так распространена, часто используется в сложении образа Яги; если осуществляемые в рамках этой формулы действия повторяются в качестве общего места, маркируя именно Ягу и её характеризуя, тогда баня, участвуя как в формуле, в замещение последней и с намеком на неё, так и сама по себе, ключевым пунктом сюжетного движения, в свете всего вышесказанного равно с Ягой особенно связана, означает её, включается в семантику персонажа, сообщая последнему определённые значения и, с другой стороны, сама интерпретируется в его контексте.
II. ЯГА
В образе Яги, как она участвует в русской волшебной сказке, можно обнаружить по меньшей мере следующий ряд характерных связей.
Наиболее выразительным, – первым, что так или иначе приходит на ум, – признаком Яги является её соотнесённость со смертью. Это справедливо как в смысле морфологической структуры конкретного сюжета, его элементов – задачи, которую она часто преследует в отношении неудачливых путников, выступая людоедкой или похитительницей; результата безуспешного прохождения её испытаний ложным героем, если она – дарительница; цели борьбы с героем, если она – воительница, – так и с точки зрения её собственных постоянных атрибутов. Иными словами, смерть и её образность сопутствуют Яге и одновременно в ней же находят своё воплощение.
Так, в сказке «Василиса Прекрасная» Яга «никого к себе не подпускала и ела людей, как цыплят». В уже отмеченном сюжете, записанном И. Худяковым, неудачное исполнение «мачехиной дочкой» задач Яги завершается гибелью и мачехи, и её дочери: «Вот она с матерью и пошла в чулан, открыла крышку сундука. А в нем был жар: обе они и сгорели». В варианте сказки «Баба-яга и жихарь», записанном в Шадринском уезде Пермской губернии А. Н. Зыряновым, назойливая Яга не скрывает своих людоедских интересов в отношении «жихарько», оборачивающихся, впрочем, сначала смертью «ягишниных» дочерей, а затем и её собственной: «Яга-баба тотчас поджалась и легла в ладку. Жихарь не оробел, взял да её и пихнул в печь».

Баба Яга на безымянной иллюстрации
Вспомним и означенный выше вариант сказки «Баба Яга», в котором Яга заведомо ищет возможности съесть падчерицу. Наконец, в сказке «Баба-яга и Заморышек» Яга предстает подлинной воительницей: «Страшно она озлобилась, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? Впереди сине море, позади баба-яга — и жжёт и палит! Помирать бы всем…»
Атрибуты Яги, конкретные составляющие её образа, равно позволяют заподозрить в ней эманацию смерти – мертвеца. Она, например, не переносит духа живых – «фу, русска кость воня»[7], «Фу, фу, фу! русским духом пахнет», и т. д. В. Пропп, иллюстрируя следующее заключение многочисленными этнографическими и фольклористскими материалами, пишет на этот счет исчерпывающе:
Афанасьев не ошибся, утверждая, что запах Ивана есть запах человека, а не русского. Но его утверждение можно уточнить. Иван пахнет не просто как человек, а как живой человек. Мертвые, бестелесные не пахнут, живые пахнут, мертвые узнают живых по запаху[8].
В этом же ключе следует рассматривать, во-первых, прежде замеченную А. Потебней, хотя бы и русской волшебной сказкой не артикулированную достаточно, слепоту Яги, – «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?»[[9], – ибо, как продолжает В. Пропп, «Яга из своего царства не видит ушедшего в царство живых»; во-вторых, костяную ногу, – ярчайшую помету принадлежности к миру мертвых, – наконец, и в-третьих, то обстоятельство, что Яга в избе «на печке лежит <…> из угла в угол, нос в потолок врос»[10], т.е., по словам Е. Костюхина и других исследователей, «как в гробу»[11].
Яга, передвигаясь, метлой заметает следы: «Выехала из лесу баба-яга – в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает»[12], «Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой»[13], и т. д.
Известен этнографический субстрат, касающийся похоронной обрядности, поясняющей установку народного сознания относительно этой своеобразной манеры передвижения мертвой Яги: «Дорогу, по которой везли мертвеца, заметали веником или поливали водой», – отмечает Е. Костюхин[14]. То же пишет и Д. Зеленин:
У севернорусских при выносе покойника позади процессии идёт женщина с банным веником, выметает пол до самого порога и разбрызгивает вокруг себя воду[15].
Яга как мертвец, заметающий собственные следы, не ходит, для передвижения использует ступу, имеющую известное семейно-обрядовое значение: ступа использовалась в различных эпизодах свадебного обряда. Так, А. Топорков демонстрирует следующий этнографический субстрат фольклорной ступы:
В Казанской губ. сваха, придя в дом невесты, отыскивала в сенях [ступу] и трижды вращала её, чтобы состоялась свадьба и молодую трижды обвели вокруг аналоя <…> В Вятской губ., чтобы сватовство прошло успешно, сваха трижды поворачивала [ступу], приговаривая: «Как не упрямится ступа, так бы не упрямилась и невеста» <…> В Пензенской губ. после отправления свахи из дома жениха его родные катили за ней [ступу], выражая этим надежду, что сваха «утолчет и угладит все проблемы» <…> В Лодейнопольском р-не при сватовстве спрашивали: «У нас есть ступа, у вас есть пест. Нельзя ли вместе свесть?» В Кадниковском у. во время девичника невесту сажали на [ступу], покрывали одеялом, и так она сидела одна около часа[16].
В этой связи следует сказать об известной соотнесённости семейных переходных обрядов – свадебного и похоронного. Так, «тождество осмысления свадьбы и похорон» раскрывает Н. Криничная на примере всё той же бани: «Тождество элементов свадебной и похоронной обрядности, прослеживаемое в мифологической прозе и лирике, подкрепляется и собственно этнографическими материалами, дополняющими фольклорные. Это проявляется, например, в обряде, в соответствии с которым «накануне брака девицы моют невесту в бане, на каменку сдают, вопят и поют, едят в бане пироги, а после бани водят невесту на могилу к родителям, если таковые умерли»[17].
Это же обстоятельство обнаруживается и в образе невесты, которую «оберегали и в то же самое время боялись. Она была опасна для окружающих как существо нечистое, уходящее в другой мир»[18], как пишет В. Ерёмина.
Невеста покидает свой род и свою половозрастную группу и возрождается в новом качестве. Потому и одета она во все белое – тоже подобно покойнику: белый цвет – знак принадлежности к иному миру[19],
– отмечает Е. Костюхин.
Соотнесённость свадьбы и похорон прослеживается и в случае особого малого фольклорного жанра лирического порядка – причети, сопровождающей эти семейные переходные обряды. Основной мотив свадебных и похоронных причитаний заключается в противопоставлении «этого мира» и «того». Как характеризует генеральную коллизию причети, её общий семантический вектор В. Ерёмина, «трудности попадания туда, препятствия, возникающие на пути в послебрачный или загробный мир, совершенно идентично рисуются народной фантазией»[20].
Показательно в этом смысле представление поляков, как их описывает А. Топорков:
По польским поверьям, в течение трёх дней после того, как кто-нибудь умер, нельзя толочь в [ступе] и молоть в жерновах, т. к. душа умершего три дня пребывает [в них][21].
Яга-мертвец, испытывающая и награждающая путника магическими предметами, волшебными помощниками за опасные задачи, сопряженные с вероятной или реальной смертью, – до выполнения которых он обычно удерживается, – открывает ему дорогу в тридесятое царство и часто через него или помимо – в брак, являющийся конечной вольной или невольной целью путешествия героя.
Таким образом, Яга, во-первых, связана с браком, со свадьбой: помощь Яги, встреча с ней подчас предваряет и во многом определяет возможность брака героя. Так, это происходит в сказке «Пёрышко Финиста ясно сокола», также и в сказке «Царевна-лягушка». Свадебный мотив обнаруживается в сказке «Баба Яга и Заморышек», в которой герои «невест ищут» и Яга предлагает им своих дочерей: «Бросилась в высокие терема и вывела сорок одну девицу. Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять», и тем более в сказке о том, как Яга сына женила:
Жила-была Баба-Яга, костяная нога, которая имела у себя одного только сына, который был собою как не гнусен, так и разумен и добродетелен. Он, достигнув совершенного возраста, приметил некоторую девицу в соседственном селении, которая совершенно сходствовалась с его нравами, и начал просить у своей матери позволения на ней жениться. Баба-Яга ему долгое время в сем препятствовала, представляя других невест, наконец, любя горячо своего сына, позволила ему взять оную девушку за себя[22].
С другой стороны, вспомним расшифрованное выше обрядовое значение ступы, напрямую связанной со свадьбой, маркирующей Ягу в качестве своеобразной свахи-колдуньи, заговорами и иными магическими манипуляциями детерминирующей семейную жизнь новобрачных.
Во-вторых, в образе Яги обнаруживается помета инициатической тенденции. Инициация или обряд посвящения, по словам В. Проппа, «один из институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак»[23].

Изображение Бабы Яги в иллюстрации И. Билибина к русской народной сказке «Василиса Прекрасная», 1900 г.
Заметим, что связь фольклорного текста с обрядом посвящения артикулировали исследователи и до В. Проппа. Если применительно к Яге это соображение верно, тогда оказывается возможным отыскать свидетельствующие о том соответствия.
Первым, кто обозначил проблему инициации в сказке в достаточной к предварительному соотнесению форме, был отечественный филолог С. Лурье. Его изыскания, на наш взгляд, подтверждают соотнесённость Яги и обряда посвящения в целом ряде обстоятельств.
Так, описывая вариант «лесного дома» – «дом людоеда», – С. Лурье заключает следующее, так похожее на то, что мы обнаруживаем в сказке «Василиса Прекрасная» и в других, уже замеченных ранее:
По иному изображается в сказках «дом людоеда», куда по несчастью попадают дети. Характерен уже внешний вид дома людоеда. Часто он убран черепами, скелетами, человеческими костями. Если в «лесной избушке» перед нами обычно идиллическая коммуна, то в доме людоеда дети с самого начала в состоянии ужаса, в ожидании близкой смерти: они всецело во власти владыки дома – людоеда[24].
Там же читаем, что в сказках подобного типа «архаической чертой является заместительное убийство и членовредительство. Обычно, как мы сказали уже, дети не умирают; смерть только угрожает им (чаще всего им предстоит быть испечёнными или зарезанными); подвергается же ей или сам людоед, или его жена, или дети». Укажем в этой связи на уже упомянутую нами выше сказку о Яге и жихаре.
«И в «доме людоеда» женщина или девушка играет такую же роковую роль, как в «лесной избушке». Чаще всего жена или возлюбленная людоеда (или томящаяся в плену у него девушка) оказывается спасительницей детей, указывая им как обмануть чудовище и бежать от него», – продолжает С. Лурье, а мы вспоминаем сказку «Баба Яга» в варианте, записанном в Воронежской губернии.
Все описанное касается и множества иных мотивов, среди которых для полноты иллюстрации выделим следующие.
Во-первых, это в известном смысле судьбой, естественным законом (чем обряд посвящения и являлся относительно социальной группы) проложенный способ обнаружения избушки Яги, который, например, в указанной выше сказке в записи И. Худякова происходит от движения ниток по воде, напоминая нахождение лесного дома «при помощи клубка или медного шарика, который сам катится в волшебное место».
Во-вторых, это способность к оборотничеству Яги-колдуньи, – этой распорядительницы обряда посвящения, результатом которого среди иных магических навыков должно было стать умение обращаться, превращаться, – как, например, в архангельской сказке «Иван Быкович», записанной Н. Ончуковым от А. Носова, в которой дочери Бабы Егабихи – по всей видимости, расщеплённого образа Яги, – способны обращаться в различные бытовые и фитоморфные объекты:
Старуха Егабиха говорит: «Поди на дорогу, овернись им кроваткой тисовой и периной пуховой, лягут они на кроватку, их растреснёт, разорвёт на маленьки зернеца». Идёт друга невеска, жалится старухе Егабихе: «Матушка, матушка, ворот Иван убил твоего сына родимого, моего мужа любимого». – «Поди овернись колодчём, ключевой водой и чарочкой золотой. Станут они эту воду пить, их разорвёт, растреснёт на мелки маковы зёрна». Идёт третья невеска. «Матушка, матушка, ворот Иван убил твоего сьша родимого, моего мужа любимого». – «Поди овернись на дорогу-ту кустиком раскитным и ягоды изюмны, будут они ись, их разорвёт, растреснёт на мелки маковы зёрнышка[25].
Здесь же, к слову, проясняется связь Яги-оборотня с животными (проявление тотемизма, пронизывающего своей образностью инициацию), которую отмечает и В. Пропп: «Анализ Яги как хозяйки над царством леса и его животных покажет нам, что её животный облик есть древнейшая форма её. Такой она иногда является и в русской сказке. В одной вятской сказке у Д. К. Зеленина, которая вообще изобилует чрезвычайно архаическими чертами, роль яги в избушке играет козёл»[26].
В-третьих, это жертва, которую необходимо принести, чтобы попасть в тридесятое царство, – смягчённая, сниженная аналогия временной смерти, обеспечивающая перерождения посвящаемого, – как мы это имплицитно наблюдаем в варианте сказки «Фенисно-ясно-сокол-пёрышко», записанном И. Худяковым в Жолчине, селе Рязанского уезда:
Этим ты дойдёшь до него. Иди! Тут вот недалеко это царство. Тут есть кусточки; ты ляжь под кусточки. Он поедет на охоту с охотниками: собаки набегут на тебя и ты будешь в его царстве.
Перечисляя многочисленные характерные элементы и мотивы европейской и неевропейской сказки типа «лесного дома» – уход из дома, превращение в животных, поглощение, соотнесённость со смертью, и т. д. – С. Лурье заключает параллель:
Изучение обычаев самых различных народов земного шара показывает нам, что вряд ли существует какой-либо другой более распространённый обычай, чем обряды посвящения[27]…
Также и В. Пропп, разработавший вслед за С. Лурье инициатическую тенденцию сказочного текста, указывал на определённые элементы Яги, – она живет в темном лесу, в этом известном инициатическом локусе, или в иных местах, ассоциированных с порогом, пределом, пограничьем; она – расхожий персонаж-даритель, испытывающий героя, который взамен получает магические умения, часто потребные к браку, и т. д. – как на маркеры того, что она «связана с миром мертвых» и «имеет какую-то связь с обрядом инициации»[28].
Будучи связанной с инициацией, включенной в обрядовый комплекс родового строя, в семейную переходную обрядность, – рождение, свадьбу, похороны, – соответствия с которой налицо, естественно предположить, что Яга также соотносится с семейной обрядностью – с одной стороны, с другой, – будучи таким образом включенной в ритуальную парадигму человекотворения, в образование человека рода, – с мантической тенденцией.
Действительно, мы видели, что Яга прямо или косвенно связана с похоронным обрядом, со свадьбой. Справедливо будет предположить, что она имеет и некоторое отношение к деторождению. Последнее имплицитно обнаруживается в морфологии сказочных сюжетов. Персонаж определённым образом связан с маленькими детьми: известен мотив их похищения Ягой.
Так это происходит в сказке «Гуси-лебеди», записанной в Курской губернии, где гуси – прислужники Яги: «Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли её братца, бросилась их догонять <…> Побежала – стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается. В избушке сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная; сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками». Так же происходит и с падчерицей в уже упомянутой сказке «Падчерица и мачихина дочка»: она удерживается Ягой.
Иными словами, это весьма устойчивый морфологический компонент русской (и не только) волшебной сказки, в которых участвует Яга. Напомним, что С. Лурье видел в европейских и неевропейских сказках подобного типа инициатический мотив, а также – попытку объяснить утративший свой смысл обряд посвящения, – в некотором смысле актуализировать поверье, что, к слову, роднит сказку и мифологический рассказ:
Сплошь и рядом в двух записанных в одной и той же области изводах одной и той же сказки этот уход мотивируется по-разному. Это непостоянство мотивировки само по себе наводит на мысль, что уход мальчиков в лес может оказаться и древнее всех этих мотивировок, и мог уже существовать, как устойчивый мотив сказки, в то время как все эти мотивировки ещё только придумывались. Если бы оказалось, что это так, то естественно было бы поставить вопрос, не заимствовались ли все эти мотивировки ad hoc из позднейшего быта уже во время, когда уход мальчиков в лес – факт, прежде не нуждавшийся в объяснении, стал уже непонятным и требующим особой мотивировки[29].
В. Пропп так характеризует обряд посвящения:
«Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Это – так называемая временная смерть. Смерть и воскресение вызывались действиями, изображавшими поглощение, пожирание мальчика чудовищным животным»[30].
Таким образом, обряд посвящения, прослеживаемый в мотиве похищения и удержания ребенка в «лесном доме», тесно связан с образом смерти и воскресения, т.е. означает второе рождение человека в приобщении его в род. О связи Яги с деторождением свидетельствует и этимология слова «баба». Так, среди прочих словарных значений В. И. Даль регистрирует следующее, особенно выразительное в нашем контексте: «Повивальная бабка, акушерка, повитуха, приемница»[31].
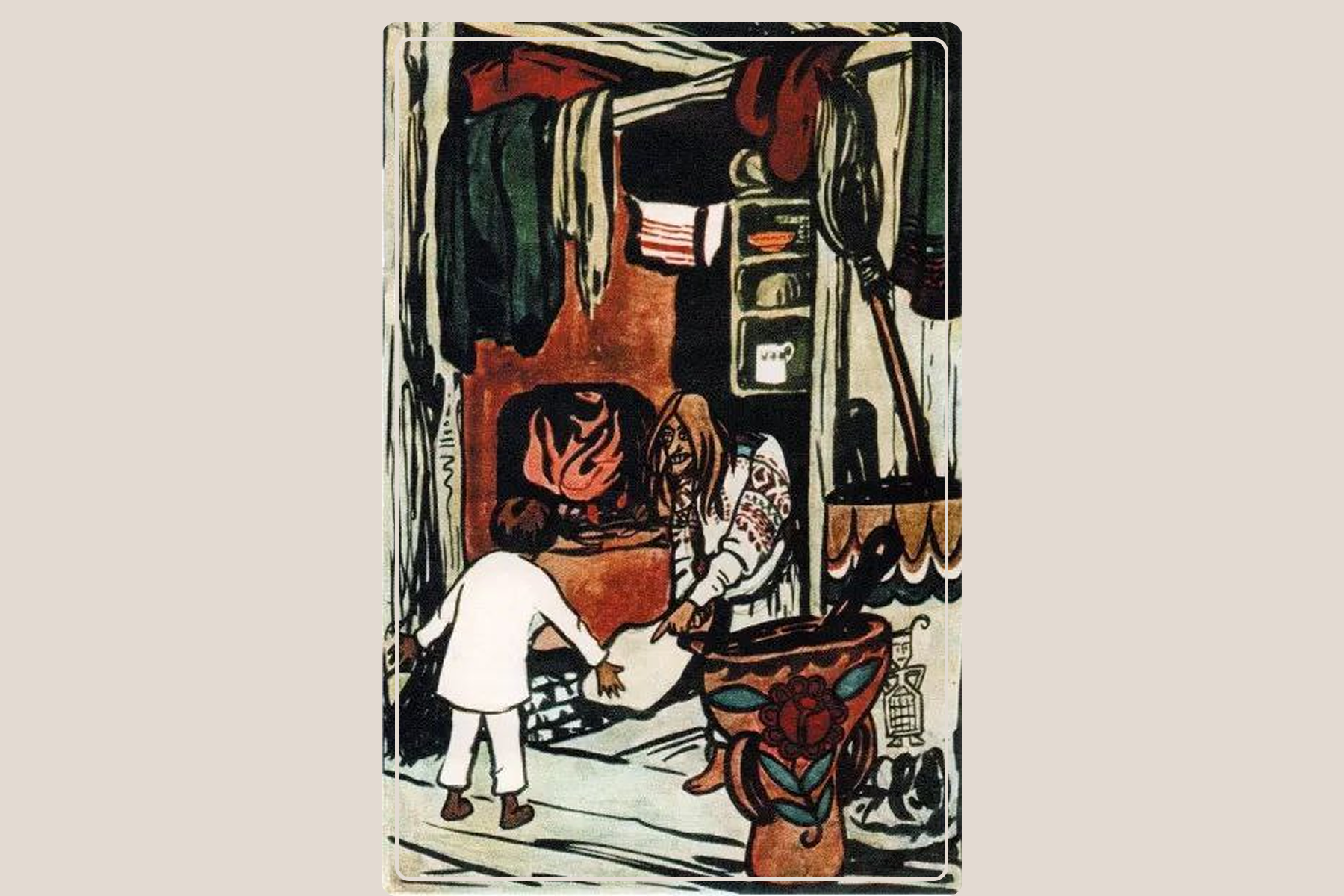
Иллюстрация Е. Поленова к сказке «Сынко Филиппко», 1890 г.
Яга-мертвец, пребывая на границе миров (лес, берег реки, всегда недалеко от тридесятого царства), будучи сама существом пограничным, живым мертвецом, переводит героев из «этого» мира в «иной», способствует магическими дарами и приобретёнными от неё умениями их возвращению, – соотносится, значит, с семантическим тезаурусом обряда посвящения, инициации.
Речь идёт о целом комплексе соответствий образа Яги с идеями порога, двоемирия, смерти и воскрешения, предбрачного обновления, следовательно, круговорота, жизненного цикла, творящего представителя рода, который проходит определённые этапы (рождение, инициация и свадьба, похороны), имеющие свою обрядность, – значит, наконец, с тем самым человекотворением.
Все перечисленное позволяет заподозрить в Яге судьбоносную фигуру – организатора и определителя судьбы человека, над этапами ритуального творения которого она властна. Если это справедливо, тогда она необходимо связана не только с инициатической, но и, как мы говорили, с мантической тенденцией, имеющей, как и первая, свои выразительные пометы. Эти пометы обнажают как морфологические пункты развития сюжета, так и атрибуты самой Яги.
Яга часто знает наперёд, что ждет путника, вооружает его необходимыми (детерминирующими его успех) к будущим свершениям магическими средствами, учит нужным заговорам, направляет и советует, предвидя события, – она буквально организует и определяет судьбу героя. Так, в варианте сказки «Пёрышко Финиста ясно сокола», записанном в Вологодской губернии, Яга заранее знает, где искать Финиста и что необходимо предпринять героине:
Как придёшь к синему морю, невеста Финиста ясна сокола выйдет на берег погулять, а ты возьми золотой молоточек в ручки и поколачивай бриллиантовые гвоздики; станет она их покупать у тебя, ты, красная девица, ничего не бери, только проси посмотреть Финиста ясна сокола. Ну, теперь ступай с богом к моей середней сестре!
То же в сказке «Царевна-лягушка», записанной в Шадринском уезде А. Н. Зыряновым: Яга учит Ивана-царевича, как «доступать Елену Прекрасну», что будет этому сопутствовать, какие магические действия предпринять, какие особые предметы использовать:
Ой, Иван-царевич, – сказала старуха, – как ты долго! Она уж стала забывать тебя, выходит взамуж за другого: скоро свадьба! Живёт теперь у большой сестры, ступай туда да смотри ты: как станешь подходить – у неё узнают, Елена обернётся веретёшком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет вить, как совьёт веретёшко, и положит в ящик, и ящик запрёт, ты найди ключ, отвори ящик, веретёшко переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя: она и очутится перед тобой.
Там же, в варианте, записанном в Саратовской губернии, Яга знает, что Кощей умрет, и учит, как приблизить его смерть, передавая всю необходимую информацию герою:
— А, знаю! — сказала баба-яга. — Она теперь у Кощея Бессмертного; трудно её достать, нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт. <...>Указала яга, в каком месте растёт этот дуб.
Так же и в сказке «Аннушка-несмеянушка»:
Она дала ей щетку, проводила её. «Куда твоя щетка покатится, там твой муж». Вот эта щёточка покатилась, она за ней пошла.
Выразительными в этом смысле предстают и конкретные атрибуты Яги, маркирующие в ней провидицу, ведающую судьбу, могущую повлиять на неё. Одним из таких атрибутов выступает повторяющийся мотив прядения – совокупность элементов, связанных с пряжей: веретено, нити, ткачество и т. д.
Так, в олонецкой сказке «Слуга Егерь», записанной учителем Муромли Д. Георгиевским, «стоит избушка на курьей ножке, на веретеной пятке, кругами вертится, и дверей не видать <…> в избушке сидит женщина, шелк прядёт, нитки длинные сучит, веретено крутит и под пол спускает»[32].
В ранее упомянутой сказке «Падчерица и мачихина дочка» героиня находит избушку, следуя за нитками по реке, что в свою очередь в смысле этнографического субстрата восходит к аналогичному гаданию на Троицу, в «зеленые святки», например, в Новгородской губернии:
Девушки в день весеннего Eropия привязывают красные лоскуты на березы, вверяя им свою судьбу и загадывая о своей будущей доле, а в Троицын день пускают эти лоскутки на воду[33],
– пишет М. К. Герасимов.
То же в сказке «Баба Яга» в записи Н. Бодрова: мотивом отправления героини к Яге выступает задача мачехи найти иголку и нитку. Как отмечает Н. Криничная, в роли мифической пряхи «может выступать Баба-яга, бабушка-задворенка, старуха <…> Она крутит веретено, сучит нить и убывает на прялке кудель <…> А результат тот самый клубочек нитей, золотой или серебряный <…> Следуя за ним, по совету дарительницы, герой преодолевает пространство и время, обретает свою судьбу»[34].
Другим атрибутом, сигнализирующим о соотнесённости Яги с судьбой в качестве организатора и определителя, выступает уже отмеченная её слепота, изначальная или приобретённая (скажем, в сказке «О Сизом орле и мальчике», героиня, спасая брата от Яги, ослепляет последнюю).
В. Пропп писал, что «слепой она является не только на русской или славянской почве. Слепота существ, подобных Яге, явление международное»[35]. Ввиду определённого выше контекста, – сумме признаков, уже располагающих к некоторым вполне конкретным выводам, – оправданным будет уточнить означенную характеристику Яги-провидицы сравнительным способом.
Так, слепы грайи, имеющие один «путеводный» глаз на троих сестер, жившие, как и Яга, «на краю земли», на границе, и участвующие в судьбе Персея, который украл этот их глаз, заставив в одном из вариантов показать дорогу к Горгонам так же, как Яга объясняет Ивану-царевичу, где найти смерть Кощея. Мотив слепоты прослеживается имплицитно и у других сестер древнегреческой мифологии, уже напрямую связанных с судьбой, – у прях-мойр. Согласно эпосу «После Гомера» Квинта Смирнского, «одна только Мойра в руки, не глядя, берёт их и с дальней Олимпа вершины наземь бросает»[36], а также – «Слепы живущих глаза в продолжении жизни короткой…»
В интерпретации мотива слепоты В. Проппа последняя тесно сопряжена с невидимостью: «Слеп человек не сам по себе, а по отношению к чему-нибудь. Под «слепотой» может быть вскрыто понятие некоторой обоюдности невидимости»[37]. И действительно, мойры «незримы нашему оку», а русская сказка сохранила пометы слепоты героя в отношении Яги. Например, в записанной М. А. Максимовичем на Украине сказке «Иван Сученко и Белый Полянин», в которой образ Яги имплицитно прослеживается в морфологии сюжета, скажем, в образе «девки», находящейся замужем за змеем и живущей в некоем случайно обнаруженном героем двухэтажном доме, происходит такой диалог:
— Чего ты, русский человек, коло нашего двора ходишь? <...> — А ты что за спрос? Дай наперёд мне воды – глаза промыть, накорми, напои, да тогда и спрашивай!
Показательно, что в некоторых сюжетах русской волшебной сказки Яга подобно пряхам-мойрам, грайям, скандинавским норнам (тоже, к слову, пряхам) имеет сестер. Так, в вологодском варианте сказки «Пёрышко Финиста ясна сокола» у Яги имеются две сестры, «средняя» и «старшая», то же – в сказке «Царевна-лягушка» в варианте Шадринского уезда.
В этом же месте Яга соотносится и со славянским вариантом мифических прях, определяющих судьбу – с Роженицами. Так, согласно изысканиям И. Срезневского, мыслящего южнославянское происхождение поверий о Роженицах[38], предки словенцев (хорутане) так интерпретировали последних:
Хорутанские Словенцы не только в нижней Краине, но и в Каринтии, а вероятно и в других краях остаются при уверенности, что всякий человек, как только родится, получает себе звезду на небе и свою Роженицу на земле, которая прорекает ему судьбу. Вместе с тем они рассказывают, как мне самому случалось слышать, что чуть родится дитя, три или две Роженицы входят в избу – Бог знает откуда, и как определяет судьбу младенцу; их видит иногда родительница, когда они уже уходят, и если светит сквозь окно месяц, то в луче месячном видны ясно их радужные покровы.
Там же И. Срезневский перечисляет особенности славянских представлений о Роженицах:
Рожениц воображали славяне сёстрами <…> Роженицы были почитаемыми и призываемыми как помощницы при родах, одаряющих новорождённых дарами счастья <…> Роженицы рисовались в воображении славян пряхами.
Невидимые Роженицы-пряхи, определяющие судьбу младенца, помогающие в родах, имеют, как можно предположить, отношение и к свадебной обрядности. И. Срезневский считал, что трудно дифференцировать «какие именно образы соединялись с мифом о роженице у славян», поскольку «об этом из памятников, до сих пор открытых, нельзя сделать никаких заключений». И тем не менее, сравнительный метод несколько уточняет образ Рожениц. Так, И. Срезневский пишет:
Сравнение Рожениц с Артемидой (Дианой) в Паисиевском слове Григория ещё более определяет славянский миф. Это богиня греков и римлян была представляема покровительницей жён, бабкой и кормилицей, хранительницей целомудрия жён. Греческие невесты перед браком приносили жертвы ей, Юноне и Паркам. Как богиня судьбы вместе родов, то покровительствующая, то враждебная родильницам, она считалась помощницей матерей, разрывающей пояс родильниц, помощницей родов, вместе с тем – доброй пряхой, следовательно, как будто одной из парок, которые заведовали, как известно, нитями жизни человеческой.
Особенно значительны изыскания С. Соловьева, видевшего Рожениц в качестве представителей мира мертвых:
Теперь обратимся к другой половине Славянской мифологии, именно к поклонению гениям и душам усопших; это поклонение у Славян было общее с народами, у которых господствовал родовой быт <…> При вере в загробную жизнь естественно было придти к тому верованию, что душа умершего родоначальника и по смерти остается с своим родом, блюдет за его благосостоянием; отсюда происхождение духов-покровителей для целого рода и каждого родича – Рода и Рожениц[39].
Соотнесённость Яги и Рожениц налицо, вскрывает целый ряд соответствий. Как это было видно выше, Яга в качестве своеобразного распорядителя инициации уподобляется Роженице: она участвует в повторном рождении представителя рода, организует это второе рождение. Как и Роженица, Яга определяет судьбу героя, имеет отношение к миру мертвых, к свадьбе; наконец, она пряха, имеет двух сестер, связана с невидимостью.
Итак, Яга прямо или косвенно имеет отношение ко всему семейному обрядовому комплексу – к похоронам, к деторождению, к инициации и браку: она и распорядитель обряда посвящения, и сваха, и повитуха, и именно через неё, живого мертвеца, пролегает путь в «иной мир». Семейная же обрядность, некогда выходящая за пределы семьи, касалась родовой общины в целом. Как пишет Ю. Сурхаско:
Важные события в жизни одного человека касались, как правило, не только его самого и его ближайших родственников – членов одной семьи, но и всей многочисленной родни родственных и свойственных связей[40].
Отсюда неизбежная соотнесённость с культом родовых, затем семейно-родовых предков.
Известно, в свою очередь, что культ предков, по словам Н. И. и С. М. Толстых, был «единственно всеобщим, полно и хорошо представленным, повсеместно довольно четко реконструируемым у славян»[41], – наиболее устойчивым, оказавшим влияние на огромное число мифологических и фольклорных образов.

Изображение Яги из книги «Алконост, Полкан, Шишига и другие мистические персонажи славянского эпоса»
Наконец, Яга, как и мифологические славянские Роженицы, прозрачно связанные с культом предков, определяет судьбу героев. Применительно к судьбоносному участию «духов рода» Н. Криничная отмечает, что они «даруют новых членов семейно-родовой общины, программируют судьбу людей, покровительствуют или противодействуют им»[42].
Вся эта сумма обстоятельств и признаков персонажа позволяет заподозрить в нем, вновь повторяя сказанное С. Соловьевым, «душу умершего родоначальника», либо, по меньшей мере, предположить некоторую соотнесённость его с культом предков. В этом смысле Яга собственно баба, старуха ещё и в значении «большухи», и отнюдь не только «над ведьмами»[43], как заключает В. Даль, – она старшая в роду вообще.
Магическая сила приписывается старшим в семье, в семейно-родовой или сельской общине. Именно старшим принадлежит главенствующая роль и при совершении обрядов, связанных с культом предков. Именно им отводится роль медиаторов между умершими и живыми сородичами, равно как и между мифическими существами[44],
– поразительно напоминая образ Яги пишет на этот счет Н. Криничная.
В. Пропп, отмечая в тон нашим изысканиям, что Яга «снабжена всеми признаками материнства», что её женская физиологичность «резко подчеркнута», тем не менее заключает, что она – «мать не людей, она – мать и хозяйка зверей, притом зверей лесных»[45].
Действительно, в Яге, в её оборотничестве, зооморфных атрибутах (например, предположение В. Проппа о том, что «костяная нога» Яги прежде была ногой животного, позднее перенесённой на жилище) и связях с животными вообще, которыми она может управлять, прослеживаются остатки тотемических воззрений.
Однако эти её тотемические пометы, то обстоятельство, что Яга – хозяйка зверей, своеобразный тотемный предок, – вовсе не исключает и того, что она, согласно нашему рассуждению, имеет какое-то отношение и к последующему за тотемизмом, обозначающим предком существо, породившее и животного, и человека, культу обожествленного родоначальника – культу предков. В тотемизме, как видно, уже содержится потенция к развитию культа предков – и в образе Яги мы это развитие обнаруживаем.
Ранее нами отмечалось:
Фольклор, по своему происхождению коллективный <…> пребывает, по чуткому замечанию В. Проппа, «в постоянном движении и изменении», непрерывен, как и самый исторический ход <…> подстать всему движению времени усложняется, впитывает влияния и воздействия сменяющих друг друга в борьбе эпох. Тем самым слагается летопись мировоззрения народов, изображаемая не статично, не как раз заданная конфигурация, но в динамике переживаемых им от внешних и внутренних необходимостей трансформаций и метаморфоз. При всей устойчивости народной традиции, парадигма фольклора (все его роды и виды; сюжеты и персонажи; формы исполнения и отдельные тропы, и т.д.) в действительности крайне подвижна. Каждый её сегмент означает не только актуальное его содержание в пределах некоторого текста, но сразу всё возможное содержание, сообщённое ему его собственным временным течением.
В Яге мы видим аналогичное «слоистое» содержание; её образ аккумулирует этапы его сложения и бытования, значение этих этапов. Последовательность развития народных представлений мыслится, например, Н. Криничной в форме «преодоления тотемистических и нарастания иных, пришедших на смену языческих верований, в которых обожествляется уже не тотемный предок, а собственно предок-родоначальник, глава семейно-родовой общины, состоящей из многих поколений сородичей, живых и умерших; со временем обожествляются и сами умершие»[46].
Таким образом, повторимся, Яга как хозяйка зверей вовсе не исключает, а скорее даже подтверждает её предположительное отношение к родовому культу предков, тогда как её исторически детерминированный полисемантизм раскрывает также и самый путь её бытования – Яга одновременно выступает и хозяйкой зверей, и имеет отношение к миру мёртвых, отражая, тем самым, совершенно различные этапы сложения образа.
Вспомним и словарную статью В. Даля[47], в которой слово «баба» соотносится со словами «дедила, диданя, диданька», т. е., «дед», «деды», имеющими также ещё и ритуализованную семантику – эти наименования имеют некоторую связь «с представлениями о «дзядах», или предках-покровителях», тех самых «душах умерших родоначальников».
Именно потому, что она – старшая в роду, ритуально-магически организующая и поддерживающая род, – почти все путники, встреченные или отправленные к ней, мыслятся ею самой родственниками, всех она именует племянницами, внучками, внуками, тогда как герои обращаются к Яге, как к бабушке, тете. Так, это происходит в шадринской сказке «Царевна-лягушка»:
Старуха напоила-накормила и спать положила. Иван-царевич говорит ей:
— Баушка! Вот я пошёл доставать Елену Прекрасну.
— Ой, дитятко, как ты долго (не бывал)!
То же в вологодской сказке «Пёрышко Финиста ясно сокола»:
— Куда путь, красная девица, держишь? От дела лытаешь али дела пытаешь?
— Был у меня, бабуся, Финист ясен сокол, цветные перышки; сестры мои ему зло сделали. Ищу теперь Финиста ясна сокола».
— Далеко ж тебе идти, малютка! Надо пройти еще тридевять земель.
В другом варианте и сам Финист оказывается родственником Яги («О, о! Это мне родственник!»).
Аналогичное обнаруживаем в уже упомянутой воронежской сказке «Баба-яга», в которой мачеха отправляет падчерицу к сестре-Яге и у них происходит такой диалог:
— Здравствуй, тётушка!
— Здравствуй, родимая!
— Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку — мне рубашку сшить.
Также и в сказке «Аннушка-несмеянушка»:
Баба-яга и говорит: «Что русским духом пахнет? Скажись, кто там, а то съем». — «Я, говорит, тетенька!» — «Что ж ты боишься? Иди ко мне!» Она к ней подходит, покормила её.
В. Белов, анализируя фигуру «большухи» в народных представлениях, интерпретирует её таким образом:
Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учёт сену, соломе, муке и заспе. Весь скот и вся домашняя живность, кроме лошадей, находились под присмотром большухи. Под её неусыпным надзором находилось всё, что было связано с питанием семьи: соблюдение постов, выпечка хлеба и пирогов, стол праздничный и стол будничный, забота о белье и ремонте одежды, тканьё, баня и т. д. Само собой, все эти работы она делала не одна. Дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с игрой начинали делать что-то полезное. Большуха отнюдь не стеснялась в способах поощрения и наказания, когда речь шла о домашнем хозяйстве[48].
В свете всего вышеизложенного, на первый взгляд, удивительно прозрачная схожесть «большухи» и Яги на деле мыслится вполне закономерной. Вместе с тем, образ Яги «представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин», по словам В. Проппа: «Она уже только мать, но не супруга ни в настоящем, ни в прошлом»[49]. В этом слое персонажа обнаруживает себя матриархальный реликт.
Яга – именно мать-родоначальница, женский предок, на смену которому, все по тому же В. Проппу, позднее «приходит мужской даритель и предок»[50]. Особенно выразительно подтверждает это её значение уже упомянутая выше сказка, в которой Яга в качестве очевидной хозяйки рода женит своего обладающего особыми умениями сына, «который был собою как не гнусен, так и разумен и добродетелен».
Заметим, что в Яге давно усматривают мифологический реликт, остаток культа. Так, Е. Костюхин, указывая на её хромоту, которой «страдают» многие божества различных культур, пишет, что «яга из очень древних божеств», а исследователь М. Н. Макаров говорит, что образ Яги – «строчка из той нашей истории, которую уже никто прочесть не сумеет»[51].
Именно в этой точке следует обратить внимание на баню, появляющуюся в сюжетах о Бабе-Яге и способную подкрепить наши предположения.
III. БАНЯ
Прежде всего заметим, что народное сознание, воспитанное обычаем, от мифа и обряда происходящим, организующим общественное устройство, пронизывающим группу, которая одномоментно себя в мифе, затем – в фольклоре воплощала, в качестве исходной проникнуто мистической установкой, имеющей на деле решающее значение. Об этом, наследуя мифологическому процессу, свидетельствует и самый фольклор, и сохранявшаяся до некоторых пор в народе ритуализованность.
Если, с одной стороны, верно, что фольклор непрерывен, слагается, как отмечал Е. Костюхин, «из уже известных элементов, которые живут в народной традиции»[52], с другой стороны и в свете первой, если миф составлял общую культуру исключительно устной (панфольклорной) первобытности, когда все было им проникнуто, то, соглашаясь гипотезой, например, Л. Леви-Брюля, считавшего, что именно в «в мифах, и в особенности мифах примитивных» следует доискиваться «первоначального значения сказок и фольклора»[53], мы неизбежно должны были бы допустить следующие соображения.
Миф, исторически предшествуя фольклору, предваряя его и в него переходя, неизбежно продолжает бытовать в нём, оставляя свои, с одной стороны, содержательные, с другой – формальные пометы. То же касается и обряда, этой практической реализации мифа.
Так, в числе прочих факторов сложения сказки А. И. Никифоров в первую очередь отмечает «мифологические верования первобытных народов»[54]; Е.М. Мелетинский выстраивает последовательность «превращения собственно мифов в сказки», объясняя её «деритуализацией и десакрализацией, ослаблением веры в истинность мифических событий и развитием сознательной выдумки»[55]; В. Пропп вслед за С. Лурье обнаруживает инициатическую, читай, мифологическую тенденцию в многочисленных сказочных сюжетах.
Соотнесённость мифа и фольклорного текста справедлива как относительно отдельного мотива, так и в смысле генетики целых фольклорных жанров – от сказки и до малых жанров вроде заговоров, являющихся, к тому же, вербальным воплощением обрядового действия. Например, Дж. Муни, исследовавший индейское племя чероки, среди прочих мифов отметил этиологические мифы о животных, «которые были более краткими и потеряли тот священный характер, какой они, возможно, имели когда-то» и которые «рассказывают теперь в качестве забавного объяснения некоторых особенностей у животных»[56]. Здесь мы обнаруживаем миф профанирующим от общедоступности его, некогда тайного, на этапе десакрализации и перехода в фольклорный процесс – в сказку о животных.
Нагляднее эту соотнесённость мы видим в случае заговоров. Магическое действие, сопровождаемое формульным заговором, включаясь в парадигму мистического мышления и его культурных воплощений, прямо или косвенно касается мифа и от него происходит: «Формула неизменно начинается мифическим рассказом», – отмечает Кох-Грюнберг относительно заговоров индейцев таулипанг.
Сравнимость заговора вроде «вепрь перевертывает землю, ямсы перевертывают землю» папуасов Новой Ирландии (архипелаг Бисмарка) с русским «как кипит под землю летом беспрестанно белый ключ, так бы кипело, горело сердце и душа у Ивана по мне, Марье»[57] позволяет соотнести их, имеющих общую магическую телеологию и действующих по аналогичному художественному принципу двучленного образного параллелизма, в разрезе мифологического процесса: первый связан с обрядовым и мифологическим комплексом, возникает в свете мистического сопричастия явлений, второй, повторяя его устройство, позволяет заподозрить в нём тайлоровский пережиток и допустить восхождение его к такой же мифологической архаике, содержательно и по форме проявляющейся здесь в виде формулы, образно выражающей симпатическую магию.
Именно об этом говорил К. Леви-Стросс, заметивший, что «миф и сказка эксплуатируют общую субстанцию»[58] – не только содержание, сюжет, но и самый принцип его сложения и воплощения, наследуемый и в профанации развиваемый фольклором от мифа. Ясна потому и легкость, с которой «один и тот же рассказ, зарегистрированный Вирцом у маринд-аним и Ландтманом у папуасов острова Киваи, <…> получает у первых характер мифа, у вторых – народной сказки»[59].
Итак, народное сознание, – по меньшей мере, в фольклорном процессе, – руководствуется во многом мистической установкой в определении социального и природного миров и их проявлений. Если сказки, в которых миф профанирует, оставляя следы, не интерпретируются народным сознанием в качестве предмета веры, то, однако, в несказочной мифологической прозе, – бывальщинах, быличках, – актуализирующей архаические представления, обычай, исходное значение которого было утрачено, обнаруживается своеобразный мифологический «рецидив».
В этом смысле, говоря о бане, и шире – о гигиене, – применительно к фольклору, следует учитывать то обстоятельство, что вопрос «чистоты» для мистически ориентированного мышления имеет значение, как это объясняет Л. Леви-Брюль, прежде всего «относящееся к области мистической гигиены». Рассуждая в этом ключе, справедливым будет сказать, что «очистительная» баня (и иные мероприятия, с ней схожие) имеет в фольклорном процессе не только и не столько бытовой, сколько и первоначально сакральный смысл.
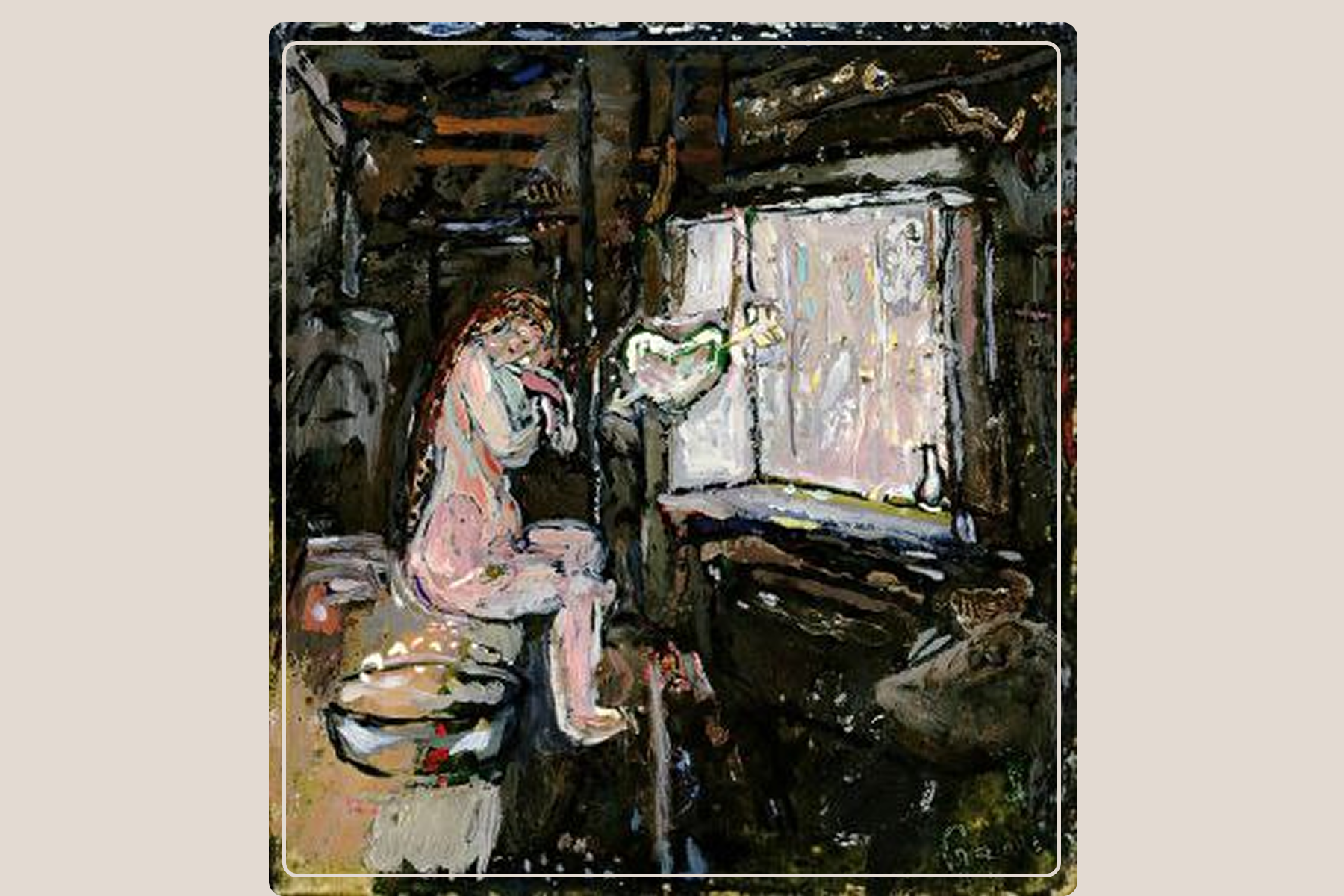
Образ бани на картине С. Афанасьева, 1960-е – 1970-е гг.
Заметим, что сакрализация бани – это международный мотив, черпаемый из первобытности и соответствующего ей мышления. Так, например, это обнаруживается в Южной Африке:
Почти во всех случаях, когда опасаются ритуального осквернения или думают, что скверна подобного рода является причиной болезни, применяется своего рода турецкая баня (фунгула). Некое как бы отравление, вызываемое нечистотой, исходящей от покойника, от менструальной крови, от родов и т.д., проявляется в распухании сочленений на руках и ногах, в боли в костях и т.д. <…> Паровой баней пользуются также люди, которым не удается иметь детей. <…> Кроме этого, требуется еще церемония очищения (хондлола), которая совершается после того, как производилось лечение, чтобы добиться исчезновения скверны (нсила), заболевания. <…> Данная церемония обязательна по окончании всех тяжелых заболеваний, а также после отнятия младенца от груди[60],
– писал миссионер А. Жюно.
Все эти мероприятия относятся к ритуальному очищению, мистической дезинфекции. Различные культуры используют для этого кровь (аналогично – охру), «в других местах прибегают к дыму или к воде. Почти везде практикуется омовение от нечистоты, например, после присутствия на похоронах, преимущественно в проточной воде или в море. Предполагается, что вода отделяет от тела нечистоту и уносит её, обладая одновременно способностью нейтрализовать дурное влияние. Вернее, оба эти действия в представлении первобытных людей не разделяются», как рассуждает Л. Леви-Брюль.
Последнее обстоятельство подкрепляет наше исходное предположение, объясняет первенствующее сакральное значение банных мероприятий, происходящее, с одной стороны, от мистически очистительной способности воды, с другой – от представлений о ритуальном истязании плоти, способствовавшему сопричастию с «иным миром».
Интерпретация воды в качестве средства очищения подлинно международна, на уровне принципа происходит из ассоциации, скажем, дождя с жизнью, с жизненной силой. Такова, например, мыслительная установка австралийских туземцев, выявляемая в понятии «вонджина»:
«Вонджина» обозначает дождь или способность делать дождь. Первым и, может быть, первоначальным значением «вонджина» является сила, производящая дождь или имеющаяся в дожде. Если подвергнуть ретуши голову «вонджина», если освежить ее рисунок, то неминуемо пойдет дождь даже в сухое время года. Позволительно, может быть, рассматривать «вонджина» как силу воспроизведения в природе и в человеке, силу, ассоциируемую в особенности с дождём[61].
А также в эквивалентном ему понятии «унгунд», которое может употребляться вместо «вонджина», «и тогда этот термин обозначает «дождь» и «радугу», т. е. змею радуги (которая посылает дождь и детей)». Показательно в нашем контексте, что эти понятия означают также ещё и мистических предков.
То же – в России, для народов которой реки подчас играли решающее в отношении организации жизни значение. Так, Н. Криничная рассуждает:
Вода (прежде всего река) – устойчивый символ дороги, жизни, судьбы в поэзии, и не только народной. В условиях необжитого края, при сохранении первозданных, девственных лесов она в буквальном смысле служила дорогой, едва ли не единственной <…> Ближние, а со временем и отдаленные водоёмы служили источником пропитания как места рыбного промысла. Реки и озера, у которых располагались деревни, использовались и в качестве основных резервуаров питьевой воды. Практические функции воды сочетались с обрядовыми[62].
Особое значение реки и воды обнажается и в севернорусских банных заговорах:
Мать река – кормилица, раба-девица, в этой реке купался Иван да Марья, брала воду раба Божья (имя той, кто берёт воду) рабу Божьему (имя ребенка) на крепкий сон, на долгий век.
Именно в этой точке берёт основание интерпретация воды как особой стихии, участвующей «во всех семейных обрядах, связанных с идеей рождения как воскресения. В качестве одного из четырёх элементов природы она, по народным верованиям, присутствует в актах возрождения, реинкарнации всего сущего. Не случайно воде, особенно «живой», только что пробившейся из-под земли, приписывается и животворящая, целебная сила. И потому данная стихия – один из важнейших атрибутов в знахарской практике», – пишет Н. Криничная.
Вода также тесно сопряжена с инициатической тенденцией. Так, например, считает С. Аверинцев, полагавший, что «с мотивом воды как первоначала соотносится значение воды для акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте. Ритуальное омовение – как бы второе рождение, новый выход из материнской утробы (аспект мифологемы воды, удержанный в христианской символике крещения)»[63].
Относительно ритуального истязания или умерщвления плоти, которое, к слову, как мы помним, также сопровождает обряд посвящения, можно отметить следующее:
Человек, который «сосредоточивает на своей особе» мистические процедуры и подвергает себя в течение этого периода самому жесткому умерщвлению плоти, <…> является подлинно «священной особой», устанавливающей интимное сопричастие между племенем, которое целиком живет в нём в этот момент, и сущностью, гением дюгоней, диких свиней, хлебных деревьев (тотемом, мифическим предком. – Д. Б.). <…> Нам кажется, что эти испытания, приёмы воздержания и умерщвления плоти лишь ослабляют тех, кто им себя подвергает. Однако первобытные люди смотрят на подобные обряды иными глазами, относя их к мистической сфере. <...> Первобытные люди убеждены, что все это их укрепляет, ибо <…> умерщвляя плоть, они очищаются, т. е. делают себя менее досягаемыми для влияния враждебных невидимых сил и более приятными для тех, благосклонности которых они ищут. Чем более чистыми делают людей испытания, воздержание, аскетические обряды, тем более сильными мистически они становятся,
– пишет Л. Леви-Брюль.
Так, Э. Тайлор отмечает, «что духовидцы американских племен вызывают в себе состояние конвульсивного экстаза постом и потогонными банями. В этом состоянии они возвещают повеления своих домашних духов»[64].
В этом же ключе он приводит конкретные примеры, скажем, «замечательную церемонию делаваров. Во время празднества в честь бога огня и двенадцати прислуживающих ему «маниту» внутри жертвенного дома сооружался шалаш, сделанный из двенадцати палок, связанных у верхушки и покрытых одеялами <…> По окончании праздника шалаш этот нагревался двенадцатью докрасна раскаленными камнями, и в него помещалось двенадцать человек. Один из стариков бросал на камни табак, и, когда страдальцы доходили до крайних пределов удушья от табачного дыма и жара, их вытаскивали обыкновенно в бессознательном состоянии».
Или, опираясь на Геродота, Э. Тайлор вспоминает скифов:
Этот обычай, соблюдавшийся еще в прошлом столетии, замечателен своим сходством со способом очищения после, похорон у скифов, описанным Геродотом. Он рассказывает, что скифы устраивают шалаш из трех наклонных жердей, связанных у верхушки и покрытых войлоком. Через отверстие в стене в него кладутся раскаленные докрасна камни, и на них насыпается конопляное семя: благодаря этому в шалаше накапливается дыма не меньше, чем пара в бане у греков, и скифы ревут от наслаждения в этом потогонном шалаше.
Список примеров и иллюстраций можно развить и ещё более, однако не они собственно являются предметом наших изысканий. Важно, что баня многими народами в мифах и фольклоре действительно мыслится сакральным пространством.
Так, в России баня соотносится с похоронным обрядом и с миром мёртвых. Н. Гальковский свидетельствует:
Оказывается, в Чистый четверток «поведали» мертвым, т. е. предлагали или поставляли для мёртвых мясо, молоко и яйца; в тот же четверток топили мыльницы, поддавали пару (на печь льют), сыпали посреди бани пепел, вешали чехлы и убрусы, чтобы навья могли обтереться, и говорили: «мойтесь». Потом находили на пепле след, подобный куриному, и говорили: «приходили к нам навья мытся». <…> Само по себе это верование общеизвестно: о нем упоминается в «Слове св. отца нашего Иоанна Златоустаго – о том, как первое погани веровали в идолы». Отмеченный обычай уцелел даже до наших дней. Мы лично наблюдали следующее: когда все окончат мыться в бане (а это обычно бывает поздно вечером), последний выходящий, оставив сколько-нибудь горячей воды в котле, приносить ведро холодной воды, поддает пару, т.е. льет ковш воды на горячую каменку и сказав: «мойтесь», поспешно уходить из бани; после этого ходить в баню «не годится». Так делают в селе Лучесах Смоленской губ. каждый раз, как топят баню[65].
Н. Криничная приводит и такой пример:
Осмысление бани в качестве домовины или вместилища для гроба поддерживалось соответствующими архаическими верованиями и обрядами, подобными тем, которые были зафиксированы, например, в Ингерманландии, где умершего помещали (хоронили) именно в бане.
Известно, что баня включена и в свадебный обряд, как мы это показывали выше. Дополним уже отмеченное следующими примерами. Н. Козырев отмечает псковскую предсвадебную обрядность невесты:
К вечеру баня, тщательно вымытая, бывает готова, мать снимает новые, еще непаренные веники и дает их девицам. Те убирают невестин и свой веник ленточками, разноцветными тряпочками <…> Перед отправлением в баню, колдун у ног невесты насыпает горку овса, ржи, льняного семени, обводит ту юрку чертой и заставляет невесту перешагнуть ее. Затем подает ей конец пояса и ведет окруженную девицами невесту в баню[66].
Далее следуют свадебные причитания:
Растопися, банька,
Раскалися, каменка,
Ты расплачься, Настасеюшка,
Перед ронным батюшкой,
Поред родительницей матунькой,
Перед братцем своим, соколом,
Перед сестрицей, касатушкой:
Родитель мой, батюшка,
Красно солнышко, матынька,
Поддержите меня молоденешку,
Не сдавайте на нужу сторонушку
Цужому, неронному батюшке,
К цужой, неронной матуньке
Так, и Ф. Плесовский на материале народов коми отмечает особое, – свадебное, – значение бани:
Мыться в бане перед венчанием считается обязательным во всех районах. Мытье в бане для невесты связано с определёнными ритуальными действиями, которые не везде одинаковы. Не в одно время и моется она[67].
И далее исследователь перечисляет многочисленные локализации банных мероприятий.
Как мы помним, свадьба сопряжена с инициацией, и действительно, обряд посвящения проступает и в банных мероприятиях. Н. Криничная замечает, что, например, в мифологических рассказах о бане (бывальщинах, быличках и т.д.) «просвечивают и некоторые рудименты мотива женских инициаций. Их признаками служит осмысление бани как некоей могилы и одновременно утробы, где девушка подвергается длительной изоляции, и совершеннолетия как перемены её состояния, вследствие чего она получает право на брак. Знаками, маркирующими инициируемую, служит её невидимость, раздетость».
С другой стороны, и усвоение колдовского искусства, «согласно бывальщинам, происходило именно в чёрной бане. По сути это был обряд инициации: обучающийся должен был в двенадцать часов ночи пролезть в пасть огромного дышащего огнём мифического животного (чаще всего собаки), которое сидело на полке, и вылезть из его зада. Прошедший испытания обретал колдовские способности».
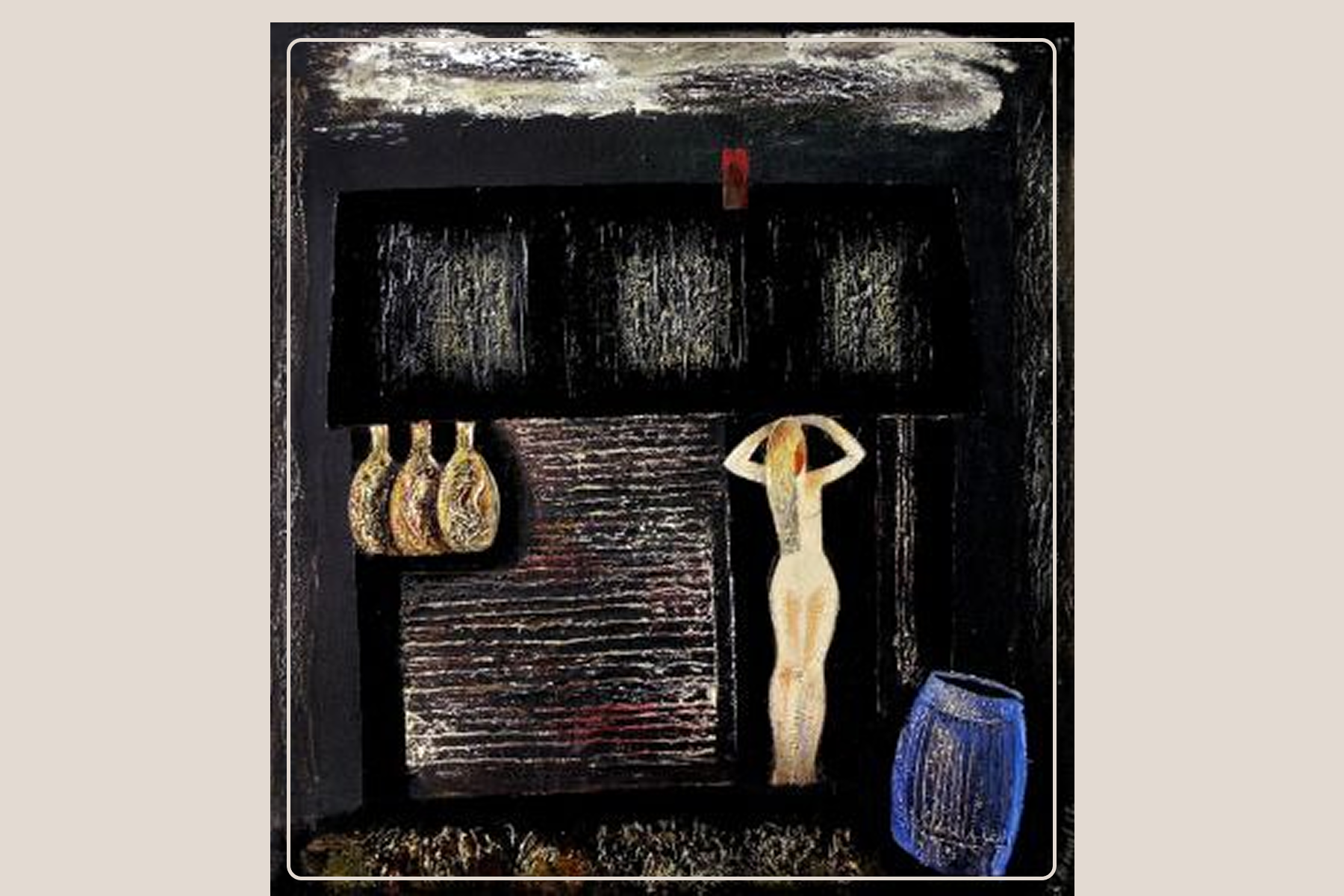
«Чёрная баня» Б. Копылова, 1978 г.
Наконец, инициатичность бани подтвердил и Ф. Плесовский:
В качестве ещё одного аргумента для подтверждения своего положения о том, что купание в бане заменило обряд посвящения, производившийся прежде в реке, может быть этимологизация коми слова пылсян (баня), происшедшего от слова купаться: родственное удмуртское слово пыласькон означает купание. Представления же коми о «хозяине» бани –банном чуде – очень недалеко ушли от первоначальных тотемно-зооморфных «хозяев» воды. <…> Обрядовое купание в бане после свадьбы имело целью приобщить молодую к святилищу и к покровителям рода мужа, получить освящение совершившемуся.
Баня была тесно сопряжена и с деторождением. Об этом весьма прямолинейно пишет Д. Зеленин: «Для рожениц баня являлась местом разрешения от бремени»[68]. Определённую связь бани и новорождённого разрабатывает и Н. Криничная:
Обычай рожать в бане зафиксирован у многих народов, в том числе и у русских. <…> Этот обычай соблюдался даже в зимнюю пору, причем и в чёрных банях, во время топки которых приходилось приоткрывать дверь. В случае если роженица все же содержалась дома, она непременно раз (а то и два раза) в день ходила в баню, что служит относительно поздней модификацией древней традиции. В бане же младенцу давалось и имя. Заметим, что этот давний и устойчивый обычай некогда соблюдался не только в крестьянской, но и в царской семье. Так, по свидетельству Г. Котошихина, относящемуся к XVII в., царица рожала именно в «мылне», туда же приходил духовник, читал молитву и давал младенцу имя, после чего в «мылню» входил и сам царь — смотреть новорождённого.
То же на материале карелов, как это описывает Ю. Сурхаско:
В карельских деревнях роды происходили чаще в хлеву, чем в бане. Но в более отдаленном прошлом у карел, надо полагать, предпочтение тоже отдавалось бане. Подтверждение тому – исключительно важная ритуальная роль бани (помимо утилитарной, лечебно-гигиенической), которая сохранялась за ней в карельской родильной обрядности вплоть до 1920-х гг. Кроме того, память об этом зафиксирована в традиционных родильных заговорах, прямо указывающих, что роды происходят в бане[69].
Наконец, известны гадания, которые предпринимались в определённое сакральное время и в связи с особыми причинами, в частности, девушки гадали о будущем муже. Так, Д. Зеленин отмечает:
Прорубь, колодец, снег, мост или баня – обычные места для гаданья, очевидно связанные с культом воды. Гадая в бане, обращаются к баннику. Севернорусские девушки берут землю из-под девяти столбов забора, бросают её на каменку и приговаривают: «Байничек, девятиугольничек! Скажи, за кем мне быть замужем?». Севернорусские девушки отправляются в полночь в баню, завернув подол на голову, обнажают ягодицы, пятясь, входят в баню и приговаривает: «Мужик богатый, ударь по ж… рукой мохнатой!» Если к телу прикоснется волосатая рука, жених будет богатым, если безволосая и жесткая, он будет бедным и лютым, если мягкая – у него будет мягкий характер. То же самое проделывают они и в риге. Выбежав из бани, севернорусские девушки голыми ложатся в снег, а назавтра разглядывают свой отпечаток: если на нём окажется след, девушка выйдет замуж и т. д[70].
Итак, баня аналогично связывается с миром мёртвых и с инициацией, выступает сакральным пространством, в котором не только парились, но и гадали, соблюдая ритуальный порядок, готовились к свадьбе, «топили» для покойников, «про родильницу тяжелую» или «про младенца некрещенного», – как это в причитаниях Ирины Федосовой. В бане же «могла происходить и передача колдовского искусства».
Иными словами, банные мероприятия включены в семейный обрядовый комплекс, что позволяет, как мы это сделали в случае с Ягой, предположить соотнесённость бани и культа родовых и семейно-родовых предков. Проясняется эта соотнесённость, скажем, на примере устройства, развития и семантики славянского жилища.
Где именно парит путника Яга? В текстах фигурирует преимущественно известная зооморфная избушка, сама же баня как отдельная постройка не описывается. Не тот ли это четырехстенный сруб, который, как считает Н. Криничная, «служил у многих народов одновременно и жилищем, и баней», что, по её мнению, и зафиксировано в языке – «изба восходит к древнерусск. истьба, что означает дом, баня»?
Те же свидетельства у Д. Зеленина:
Южнорусские и те белорусы, у которых нет бань, парятся дома, в тех самых печах, в которых варят еду и пекут хлеб. Из протопленной печи выгребают угли, выметают золу и на пол настилают солому. Для того чтобы в печи появился пар, стенки ее обрызгивают изнутри горячей водой. Забираются в печь через её устье, женщины нередко вместе с ребенком; затем ложатся на солому головой к устью, задвигают заслонку и парятся[71].
А также:
Есть все основания предполагать, что первоначально восточнославянским жилищем был низкий сруб с низкой каменной печью, устье которой находилось на уровне земли. Древние летописи называют такую постройку истобка. В настоящее время это стопка, стёбка, исцёпка, варёвня (белорус.); здёбка (укр.) – кладовая с печью. У русских это жилая позёмка. Если такое помещение не соединяется с сенями жилого дома, а построено отдельно, оно является однокамерным жилищем. Несмотря на свою древность, истобка, изба все же получила немецкое название: оно происходит от древневерхненемецкого Stuba. Согласно Л. Нидерле, славяне заимствовали древневерхненемецкое Stuba в значении «помещение с печью», причем это относилось к помещению, служившему не жилищем, а баней. <…> По свидетельству летописей, древнерусская истобка очень часто служила баней. <…> Часть славян стала по примеру немцев различать помещение для мытья и помещение для варки пищи и заимствовала у них слово «изба» в значении бани, построенной отдельно от жилого помещения. У других славян отделение бани от жилища произошло позже и независимо от немецкого влияния, и они стали называть это обособленное помещение для мытья либо римским словом баня, либо своим собственным лазня. Лишь много позже славянское изба, также при посредстве немцев, получило свое новое значение — отапливаемое помещение с голландкой (грубкой).
Можно сделать следующие предположения относительно избы Яги. Или это сама по себе баня, что, например, подтверждает её устойчивое пребывание на лавке, на печи, будто бы исчерпывающих убранство жилища. Так, в тульской сказке «Жар-птица» герой вошёл «в избушку; на печке лежит баба-яга», в уже упомянутой сказке «Аннушка-несмеянушка» Яга «сама лежит на лавке». Да и самой Яге тесно в избе, как это в рязанском варианте «Фенисно-ясно-сокол-пёрышко»: «Избушка повернулась. Вот она взошла в избушку, а там баба-яга из угла в угол перевёртывается: одной губой пол стирает, а носом трубу закрывает». Или это древняя, как и сама Яга, постройка, являющаяся одновременно и баней. Диахронически справедливее последнее предположение.
В любом случае, как баня, так и тем более «истобка» имеют сакральное значение. Как отмечает на этот счет Н. Харузин, «священным характером наделяются обыкновенно те хозяйственные постройки народа, которые некогда служили ему жилищем, так как с последним связан культ домашних духов, причем при переходе народа к новой форме жилья культ нередко продолжает совершаться в жилище прежнего типа, вследствие чего оно и сохраняет свой священный характер»[72]. Также и А. Афанасьев писал, что ««изба была первым языческим храмом»[73].
Действительно, во внешнем и внутреннем решениях жилища, имеющих известное обрядовое значение и на практике выражающем народное мировосприятие, можно обнаружить и тотемические следы, и следы культа предков. Это и зооморфный «охлупень», и орнаментика божниц, в которой исследователи усматривают пенатов, и повторяющаяся «лошадиная» символика… Относительно последнего Н. Криничная пишет:
Заметим, что изображение конской головы встречается в местах, особо значимых с обрядовой точки зрения: в переднем углу, у печи, у порога, у стены скотного двора. Подобный коник, но уже предназначенный для коновязи, зафиксирован в начале ХХ в. в кокшеньгской деревне: это прируб у стены скотного двора, завершающийся коньком и расположенный с внешней стороны, у входа. Позднее его сменили деревянные крюки, оформленные в виде конька или птицы. Такого рода изображение служит знаком, маркирующим локализацию здесь мифического существа – духа.
Наконец, это печной столб, который «наделялся и антропоморфными очертаниями, пережитком чего служит изредка встречающаяся выемка в его верхней части, имитирующая рот идола». И далее:
Из совокупности подобных представлений ведут начало названия печного столба в русской традиции «турок», «тур», в белорусской – «конь», «коневый столб», а также «дед»: последнее наименование связано с представлениями о «дзядах», или предках-покровителях.
Не случайно, как мыслится, и о чем свидетельствует Д. Зеленин, «в Московской губ. обряд первого опоясывания совершается лишь через год после рождения ребенка; при этом крестная мать ставит своего крестника к печному столбу и говорит, надевая ему пояс: «Будь здоров и толстой, как печной столб!»[74], – это приобщение к культу предков.
Важно помнить и об ином известном обстоятельстве – о захоронении предков в различных частях дома, являющемся, по всей видимости, этнографическим субстратом фольклорного представления «души родоначальника» и одушевления, персонификации жилища. Так, Н. Криничная перечисляет многочисленные свидетельства и изыскания:
Подобные представления объясняются, по словам С.А. Токарева, верой в духов, обитающих под порогом, – духов предков. К аналогичному выводу в сущности ранее пришел Дж. Дж. Фрэзер: в «языческой России» под порогом ютились домашние божества, души умерших людей или души животных. Такие верования непосредственно связаны с обычаем хоронить у входа, под семейным порогом, умерших. У некоторых народов зафиксированы факты погребения мёртвых под полом своих жилищ.
Возможно, именно этим объясняется поверье переяславских украинцев, согласно которому «постороннему опасно присутствовать при закладке фундамента: мастер может при строительстве дома посягнуть на голову чужака, и тогда тот вскоре умрёт. В связи с этим представлением в новый дом впускают сперва животных – петуха или кошку, особенно черной масти. Бывает и так, что глубокие старики, уставшие от жизни, сами входят первыми во вновь выстроенный дом», как об этом пишет Д. Зеленин.
Если верно, как пишет Н. Криничная, что «храм осмысляется в народном мировосприятии как хоромы и, наоборот, хоромы как храм», приводя в пример пословицу «Не добро дом без ушей, а храм без очей», тогда древнее славянское жилище, в котором обитает Яга и которое имеет сакральное значение, сообщенное ему тотемическими, затем родовыми и семейно-родовыми воззрениями, – это в некотором роде храм, где сама Яга, мать-родоначальница, обнаруживает свои жреческие, обрядово-распорядительные функции.
Соотнесённость бани и культа предков иллюстрирует и фольклор, дублирующий выраженное в зодчестве, орнаментике вышивки и т.д. народное мировосприятие. Баня в фольклоре кроме причети, которая сохранила особое отношение к ней ввиду устойчивости семейных обрядов, красочно раскрывается и в мифологических рассказах, актуализирующих эти обряды.
Своеобразная сакрализация, одушевление бани, происходящие, в частности, из захоронение предка под порогом жилища, находит свое воплощение в фигуре банника, который в свою очередь соотносится с домовым.
«По народному поверью, банник может быть и женского пола, однако чаще всего его представляют себе чёрным, мохнатым, злым мужиком. Своим обликом и происхождением он напоминает домового», – пишет о баннике Д. Зелинин, тогда как о самом домовом он говорит следующее:
Господствует мнение, что в образе восточнославянского домового сочетаются элементы культа предков и культа домашнего очага, т. е. огня. Первые выражены сильнее. Уже само место обитания домового, чаще всего под печкой, говорит о его связи с очагом и с огнём.
Основательное комплексное исследование Н. Криничной «Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт», на котором во многом основана завершающая глава настоящей статьи, посвящено поиску интегрального «духа-хозяина», прослеживаемого в образах мифологических рассказов банника, домового, лешего и водяного. Как сама исследовательница отмечает относительно банника и домового, «взаимосвязь обоих культов (очага и предков) как раз и реализуется в образе баенника либо домового, что в известной мере предопределяет функциональную тождественность этих персонажей».
Вспомним, что и баня некогда отщепилась от первоначального жилища, благодаря чему и возникла, вероятно, такая своеобычная специализация домового-предка, как «банник», что произошло с гуменником, овинником и т.д. Для нас же важно, что и банник, и домовой – соотнесённые с культом предков «духи-хозяева».
Предварительно же, прежде, чем соотнести их с Ягой, отметим правомерность подобного соотнесения, ибо, казалось бы, речь идет о персонажах, строго жанрово локализованных.
Как мы писали ранее, «жанровая дифференциация, на первый взгляд, локализуя примеры ввиду синхронически необходимого разграничения элементов структуры жанров, ограничивая, тем самым, применимость выводов, диахронически сохраняет их уместность в случае с другими жанровыми текстами народной словесности. Это в определённой мере справедливо ввиду подвижности жанров, генеалогической связанности их, пластичности жанрового сообщения друг с другом, жанровой текучести содержания, способного, например, облачиться как в былинный стих, так и в прозаическую сказку».
Это же замечает и Н. Криничная:
Формирование мотивов и сюжетов народной мифологической прозы происходит в контексте общего фольклорного процесса, отчасти определяемого одними и теми же истоками, отчасти последующим межжанровым взаимодействием, как и спецификой каждого из компонентов этого процесса. Вот почему аналогичные образы, мотивы, коллизии можно встретить и в былине, и в сказке, и в причитании, и в частушке, а также в загадке, пословице, поговорке, приговоре, присловье.
И действительно, не домовой ли погубил Ягу в печке в сказке «Баба-яга и жихарько»?
Диахроническая «текучесть» фольклорного процесса, слоистость, происходящая из его непрерывности, как мы об этом говорили выше, а также предполагаемое исхождение фольклора вообще из единого источника позволяют производить широкие сравнения, в т.ч. в случаях, когда диахронический полисемантизм, как это мы видим в образе Яги, налицо. Это касается, конечно, и сравнения двух разных жанровых систем – сказочной и несказочной прозы, отличия которой ценны синхронически и локализовано, но, по всей видимости, при длительном бытовании, в диахроническом разрезе утрачивают прозрачность.
В мифологических рассказах банник, как, впрочем, и домовой, может украсть ребенка: «В общерусской традиции распространены мифологические рассказы о том, как баенник (баенница) похищает младенца-девочку и растит ее до совершеннолетия», а также: «Согласно бывальщинам, похищенная в младенческом возрасте девочка может оставаться во власти баенника вплоть до совершеннолетия, в конечном счете до свадьбы». Так, например, в одном из рассказов:
Она в бане росла до восемнадцати лет, но только невидимая была. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, он ее видимой сделал и говорит: «Вот если придет, – говорит, – сюда парень молодой, если он откажется жениться на тебе, то ты вообще не выйдешь замуж и будешь такая же невидимая. Никто тебя не увидит, и вообще ты будешь одна»[75].
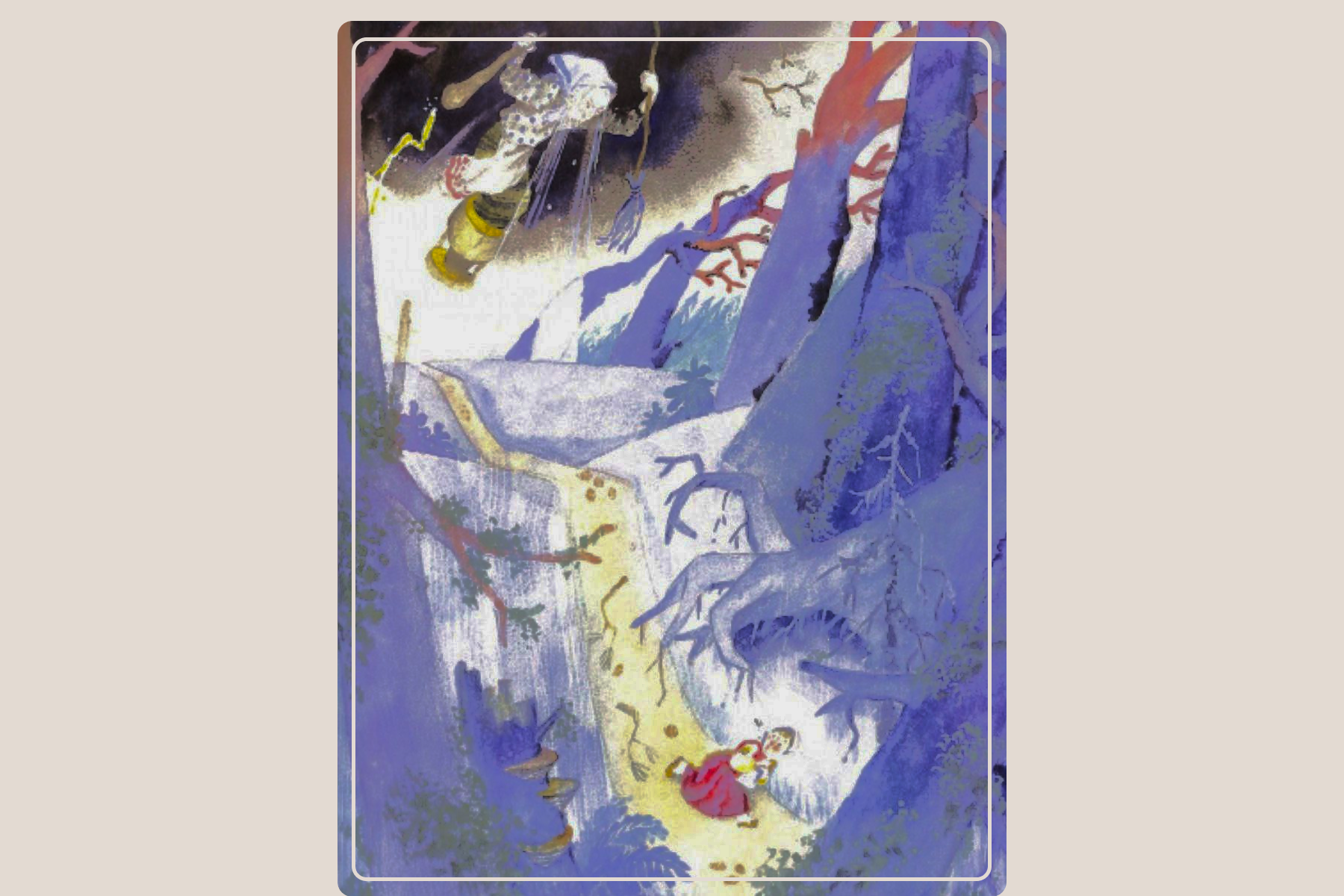
Иллюстрация из книги-альбома «Зарницы памяти: Анатолий Елисеев»
Эти мотивы мы вспоминаем и у Яги. То же касается и локализации банника и домового, как и у Яги, – «жилище <…> собственно печка». Выделяются также порог, передний угол с божницами и сами углы, объединённых в отношении похоронного обряда и культа предков:
Сюда же клали и покойника, причем непременно головой к иконам (ранее изображениям языческих божеств). Во многих местностях некрещёных детей погребали в доме в переднем углу (вариант: под порогом). Кроме того, считалось, что душа усопшего вплоть до захоронения покинутого ею тела находилась в переднем углу, за образами.
Вспомним мы и о мотиве невидимости, предположенном В. Проппом относительно Яги, поскольку невидимым становится и домовой, и банник, обладающий «шапкой-невидимкой»:
Согласно некоторым поверьям, сама невидимость баенника не лишена определённого воплощения: она достигается посредством шапки-невидимки. Эту шапку можно добыть таким способом: «в ночь на Великий день Пасхи», после того, как обойдут вокруг церкви с плащаницей, либо «во время христовской заутрени» нужно прийти в баню, причем с горящей свечой и снять со спящего баенника шапку, надев на себя. Однако если свеча случайно погаснет или похититель не успеет добежать до церкви прежде, чем баенник проснется, его неминуемо постигнет мучительная смерть.
И банник, и домовой включены в обрядности гаданий, свадьбы и деторождения. Так, как выше было отмечено, при гаданиях обращаются к баннику, домовой же «предсказывает будущее по собственной инициативе, но чаще – по просьбе гадающих. На вопрос собирателя, у кого надо спрашивать о будущем, рассказчик ответил: «Надо спросить у “хозяина”» И это отнюдь не случайно: ведь домашний дух, как мы уже отмечали, является вершителем жизненного цикла и человеческой судьбы».
Что касается деторождения применительно к баннику, об этом пишет Ю. Сурхаско:
Одной из начальных целей проживания роженицы с ребенком в бане в первые послеродовые дни было приобщение нового члена семьи к семейному культу «хозяина» («хозяйки») бани[76].
Наконец, и банник, и домовой имеют архаичные матриархальные формы, «сложившиеся еще в недрах материнского рода», прозрачно соотносимые с Ягой. Интересно, что у домового – это мара и кикимора, которые часто изображаются прядущими. Так, «не случайно кикимора наравне с другими семантически родственными персонажами столь тяготеет к прядению, плетению, вязанию». В этой связи показательно, что, по мнению В. Перетца, в лице кикиморы мы имеем «остаток какого-то низшего божества древних славян. Вера в них, вероятно, находится в связи с культом душ усопших предков»[78].
То же читаем у Д. Зеленина:
Образ домового знаком всем славянам. Древнейшее его имя мара, <…> Отсюда русские кикимора, маруха, как нередко называют злых домовых[79].
Наконец, известно, что в качестве замещающей или наоборот, первоначальной тотемической жертвы «севернорусские закапывают под порогом вновь выстроенной бани <…> баннику задушенную черную курицу». Не здесь ли обнаруживается этнографический субстрат куриных ног избы Бабы Яги? Показательно и то, что кикимора «обнаруживает некое «куриное» происхождение: она может локализоваться в курятнике, щипать перья у кур».
Банник и домовой аналогично наделялись народным сознанием зооморфными атрибутами. Так, например, «есть факты, свидетельствующие о том, что банник может появиться в виде змеи»[80]. Или, как свидетельствует один рассказ, в облике белой кошки. Отметим, что рассказ о том, где банный дух являет себя змеёй, имплицитно прослеживается инициатический мотив: «Увидишь ты в байне змею, поцелуй её — половину узнаешь. Слюну у ней возьмёшь – всё узнаешь. Увидел мужик змею, испугался и отказался от слов. Так змея такой шип устроила, что еле её в каменку загнал».
Домовой же часто соотносится с петухом, как это, приводя многочисленные свидетельства и источники, обозначает Н. Криничная:
И все же иногда он (петух) считается «хозяином в дому», либо самой любимой птицей домового.
Среди связанных с культом-предков «духов-хозяев» Н. Криничная называет и лешего, иллюстрируя это обстоятельство целым комплексом признаков, частью относимых и к домовому. Так, например, исследовательница отмечает:
При входе в жилище, в том числе и в лесную промысловую избушку, полагалось по этикету «проситься» у ее «хозяина» на ночлег. Лишь при этом условии вошедший сюда оказывался под покровительством домашних духов и охранялся законом гостеприимства. В противном же случае вошедший проводил всю ночь без сна, пребывая в мистическом страхе и нередко обращаясь в паническое бегство. Домовой и леший в таких рассказах взаимозаменимы, а подчас и не дифференцированы друг от друга.
Вспомним, что и В. Пропп видел в сказочном лешем – замену Яги: «Леший всегда есть не что иное, как переименованная Яга»[81].
Баба Яга некоторым способом соотносится с целым рядом «духов-хозяев», имеющих прямое отношение к культу тотемических, родовых и семейно-родовых предков. Однако является ли сама она «духом-хозяином»? Даже при широком диахроническом сравнении не следует окончательно сливать воедино принципиально разные жанровые структуры. С другой стороны, ввиду того, что она, очевидно, имеет древнее происхождение, скорее – Яга один из этапов фольклоризации, профанации языческого представления о духах предков, отложившийся именно в сказке, в которой, повторимся, профанирует миф.
Таким образом, само участие бани в сюжетах о Яге сигнализирует о соотнесённости её с культом предков, с другой стороны – она дублирует считываемые в самой Яге признаки этого культа. Это предельно аутентичная сигнатура, а не случайный атрибут, раскрывающая в свете всего выше изложенного Ягу в смысле матери-родоначальницы, духа предков и профанирующего в сказке мифического образа.
Именно поэтому эта формула – «В бане выпарила, напоила, накормила, в постель уложила», – так распространена, обнажает обрядовое значение банных мероприятий, сигнализируя об определённом этнографическом субстрате сказочного текста, тем самым углубляет и расширяет его семантику. Это и отношение к похоронному обряду, частью которого была и ритуальная пища, и омовения, и парения; это и инициация, имеющая схожий с ритуалом похорон обычай; это и преддверие свадьбы. Эта формула сама по себе – маркер принадлежности Яги к семейно-родовому обрядовому комплексу, так же, как и баня.
На первый взгляд, только сон, только «спать уложила» оказывается без конкретных связей, однако на деле – это известная координата иномирия. «Засыпают» мертвые, отправляясь в иной мир; происходит первая брачная ночь, овеществляющая женщину, на свадьбе пребывающей в лиминальном, переходном состоянии; это и особый инициатический сон – временная смерть. Этот мотив исчерпывающе иллюстрирует В. Пропп применительно к Яге:
У кафров, у которых мальчики подвергаются обрезанию в возрасте 14 лет, мальчикам запрещено спать, пока не заживет рана. У евреев ночь перед обрезанием называлась «ночью бодрствования», так как в эту ночь нельзя спать, потому что «шедим», злые духи, пытаются овладеть мальчиком до обрезания. Обряд посвящения вообще плохо известен. Мы знаем, что он представлял собой смерть и воскресение или рождение. Замтер собрал очень много материала о запрете сна при рождении, смерти и вступлении в брак. Для нас они важны, косвенно подтверждая связь запрета сна со сферой смерти и рождения, то есть со сферой, которая была основой обряда инициации.[82]
Не зря и в культурах первобытных (в терминологии Л. Леви-Брюля) народов сон тесно сопряжен с мифическим пространством. Так, Л. Леви-Брюль пишет:
Мифы, подобно сновидению, служат объектом глубокого почитания. Туземцы чувствуют в них нечто священное. Внимая им, они испытывают часто ту характерную эмоцию, которая появляется у них, когда вступает в действие аффективная категория сверхъестественного. Таким образом, мир, куда вводит сновидение, совершенно не отличается от мира мифического периода, от мира невидимых сил и сверхъестественных потенций, от которых в любое мгновение зависит благополучие и даже существование природы и человеческого общества. Вот о чем свидетельствует наличие в ряде австралийских и папуасских языков таких выражений, как «алджира», «дзугур», «бугари», «лалау», «унгуд» и т. д., означающих одновременно «сновидение» и «мифический период со всем к нему относящимся[83].



.svg)




