«Чтобы понять лирику Аронзона, надо знать, что он любил свою жену»[1]
– К. Кузьминский.
Если отнестись к формулировке, вынесенной в качестве эпиграфа, со всем должным вниманием, то можно обнаружить в ней не только и не столько биографическую опору, ту почву жизни, на которую пришлась лирика Леонида Аронзона, но и внутреннюю логику его поэтической речи, особую ее направленность.
Биографический контекст жизни поэта часто задает исходную перспективу интерпретации его творчества; в случае Аронзона и возникшего вокруг его смерти мифа[2] — особенно. С одной стороны, подобный угол рассмотрения наследует эссеистике ленинградской «второй культуры», где личная близость, переплетенность биографий порождали определенную традицию говорения о гениях своего времени, конструирование легенд и легитимацию через них творчества. С другой же стороны, экзистенциальный план, намеки, недосказанность, на которых строится письмо Аронзона, в частности его любовная лирика, способны и самостоятельно навести читателя на вопрос о бытии человека, выразившегося в слове.
Брат поэта, В. Аронзон, писал:
По общему мнению поэтические произведения поэта не только в большей степени посвящены его жене Рите Пуришинской, но и вдохновлены ей, а его взросление как поэта происходило под ее влиянием. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но Рита была его поэтической музой без сомнения[3].
Подобная характеристика не ограничена просто фиксацией влияния, о котором позднее будут судить по письмам Пуришинской — она намекает на определяющее участие жены в самой поэтике, на ее присутствие в структуре словесного творчества в качестве «музы» и адресата.
Схожим образом роль Пуришинской подчеркивал филолог А. Степанов в статье «Живое все одену словом»:
Жена – лирический объект и адресат многих возвышенных произведений Аронзона. Во многом благодаря близости их отношений появилась внушительная серия столь редких в современной литературе «семейно-лирических» стихотворений[4].
В исследовательских оценках и воспоминаниях, таким образом, биографический контекст неизбежно проецируется на поэтику: личной близостью поясняются обстоятельства бытования любовной лирики, словно подробность авторской жизни проникает в саму структуру поэтики и пронизывает ее. Особенности смешения авторского и лирического, вне- и внутритекстовых пластов в подобных обобщениях распространенное явление, во многом продиктованное комплексными впечатлениями от лирической формы как таковой. Философ М. Бахтин, проясняя отношения автора и лирического героя, так писал об этой проблеме:
Близость героя и автора в лирике не менее очевидна, чем в биографии. Но если в биографии, как мы это видели, мир других, героев моей жизни, ассимилировал меня — автора и автору нечего противопоставить своему сильному и авторитетному герою, кроме согласия с ним (автор как бы беднее героя), в лирике происходит обратное явление: герою почти нечего противопоставить автору; автор как бы проникает его всего насквозь, оставляя в нем, в самой глубине его, только потенциальную возможность самостояния[5].
Так, лирический герой выступает «внутренним человеком» автора, центром его видения, или, по выражению Л. Гинзбург, формой авторского Я, в которой преломляются его темы, но не существует своей[6]. Иными словами, поэтическая субъектность глубоко символична, она намекает, отсылает к обстоятельствам действительной жизни человека. Можно — и нужно — идти дальше, ставить следующий вопрос, обратившись к самим текстам: как поэзия становится в этих обстоятельствах, что она выражает. Отношения Леонида Аронзона с женой стали частью мифа о поэте, тех семиотических контекстуальных полей, которые, как кажется, окружают творчество, стимулируют его в качестве условий, но не соприкасаются с ним напрямую.
Тогда, чтобы рассмотреть тезис из эпиграфа, узнать, как выражались семейные отношения в лирике, необходимо предположить их внутри самих текстов, предположить жену имплицитную как своего рода двойника действительной Пуришинской в поэтической речи Аронзона. Основания для подобного предположения есть, Аронзон, в действительности, посвящал своей жене множество значимых стихов, часто они сопровождались паратекстами «Рите», «Рике», «Жене», но последними не ограничивались, подчиняя всю свою структуру адресации, обращенности — подразумеваемому образу жены, установке на диалог с ней.
В статье они будут называться условно «любовной лирикой», охватывая стихотворения, обращенные к жене и позволяющие осмыслить «отношение» поэта к ней, которое, оставаясь предметом традиционных биографических и критических наблюдений, приобретает конкретное выражение лишь в структуре образной речи, ее интимной направленности и открытости к ответу[7].
Литературоведческая традиция связывает адресацию, прежде всего, с жанром послания. Л. Гинзбург отмечает, что расцвет русского дружественного послания приходится на период сентиментализма (1800-1810 годы), эксперименты школы карамзинистов, «которая хотела создать поэзию частной умственной и душевной жизни нового человека». Человека нового мировосприятия, для эстетического сознания которого характерно «слияние рассудочности с чувствительностью»[8].
Частность, и даже интимность поэтической речи такого человека выражалась в самой структуре жанра послания, предполагала включение в текст разговорных интонаций и прозаических деталей, придание фигурам автора и адресата биографической конкретности, а также формирование особых семантических лакун, намеков — так называемой «домашней семантики» в определении Ю. Тынянова, которая характеризуется обрывочностью, недоговорённостью, «не терпит пояснительных мест и описаний»[9].
По мере развития дружеского послания эти принципы обострялись: так, если для посланий Карамзина были характерны лишь упоминание конкретного адресата и намеки, то для младших карамзинистов уже — наделение адресатов античными ролями. Из послания Вяземского к Батюшкову (1816), например, можно было установить, что «Жуковский — Гораций-Эпиктет», а Батюшков «наследник тула / Опасных стрел глупцам / Игривого Катулла». Однако сам принцип применения к адресату того или иного античного образа оставался сокрытым, указывающим на кружковый контекст арзамасцев, и от того случайным, ассоциативным для читателя.
В той же тенденции биографической конкретности и одновременно недоговоренности развивались и пушкинские послания: например, послание В.Л. Давыдову (1821), в котором М.Ф. Орлов называется «обритым рекрутом Гименея», который «под меру подойти готов». Причинность подобного образа остается за скобками стихотворения, читатель может не знать, почему именно так Пушкин характеризует Орлова, однако «он не может не почувствовать истинный намек, и, следовательно, безошибочно воспринять установку текста на интимность, неповторимую единственность атмосферы», как писал об этом Ю. Лотман[10].
Форма послания, таким образом, сокращает дистанцию между читателем и поэтом, подразумевает, что читателю будут ясны все подробности, намеки и имена, включает его в интимную, частную жизнь, к передаче которой она устремлена. Все обозначенные принципы — биографизм, интимность, семантическая неполнота, — свойственны жанру послания, преимущественно описаны на материале дружественной его разновидности, — однако аналогичные приемы легко обнаружить в поэтической практике Леонида Аронзона. Его тексты насыщены биографическими конкретизациями, обращениями не только к жене, но и к друзьям — Владимиру Эрлю, Александру Альтшулеру и др., их возвышением через известные в культуре образы: «Горацио, Пилад, Альтшулер, брат», «Люблю тебя мою жену, Лауру, Хлою, Маргариту».
Особую значимость в этом контексте приобретает «домашняя семантика» многих текстов Аронзона, замыкающая смысл внутри личного опыта, работающая как указание. Например, референцию «Глен Гульд — судьбы моей тапир» невозможно понять как без знания того, что это любимый пианист поэта, так и без контекста сравнения его с музыкантом в одном из любовных писем Риты Пуришинской: «Глен мой, Глен! Любимый — единственный! Сердце — Глен мой! Наверно, то, что я пишу, тебя нервозит! Но это такое счастье, что я так сильно люблю тебя»[11]. Однако сама установка на важность, единственность Гульда в судьбе лирического Я фиксируется.

Стоит коснуться и одного из известных стихотворений «Послание в лечебницу». Не называя своего адресата прямо, оно сохраняет в себе его присутствие через любовную интонацию, детали и мотивы:
В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече,
и доживи до лета, чтобы сплетать венки, которые унесет ручей.
Вот он петляет вдоль мелколесья, рисуя имя моё на песке,
словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке
За пространством пасмурного парка угадывается больничный сад, для другой ассоциативной образности — имени на песке, лета, радужных рыб — находятся переклички с письмами Риты, которые она отправляла из лечебницы: «в другом месте она говорит, что скучая, везде чертит имя своего возлюбленного, постоянно пишет о своих аквариумных рыбках, скучает по лету»[12]. Рита Пуришинская страдала комбинированным пороком сердца, часто болела, лежала в госпиталях, и хотя структура текста не указывает напрямую на обстоятельства разлуки, она предполагает внутренний, в каком-то роде воображаемый диалог с любимой. Обращение к жене, в первую очередь, развертывает в речи мир внутренних переживаний и поисков лирического «Я», а обрывочность, недосказанность обуславливают потаенность этих чувств, их невыразимость.
Необходимо оговориться, что сходство приемов «Послания в лечебницу» и традиционного сентименталистского послания само по себе не означает, что Аронзон реставрирует именно этот жанр в своей поэтике, демонстрирует свою преемственность по отношению к нему и только. Интимная лирика Аронзона в неменьшей степени наследует и русской элегии, сфокусированной вокруг внутренней, сокровенной жизни человека[13]. Классическая русская элегия шла вразрез с биографической конкретностью послания, но в то же время — содержала ту же недоговоренность, ту же неполноту выражения, концептуализируя при этом невыразимое в качестве сущностного признака поэтической речи.
Зародившись, как и послание, в период сентиментализма, элегия разделяла с ним задачу творческого раскрытия мировоззрения частного человека, фрагментарного обнажения его мыслей и чувств. И главное — элегия, как и послание, подразумевала адресацию, обуславливала «и вопрошания, и просьбы, и жалобы, и другие возможные формы обращений к другому, к адресату, даже если этот “другой” — одна из ипостасей я»[14].
В «Послании в лечебницу» элегическое предваряет экзистенциальное: оно определяет регистр высказывания, его интимную направленность — внутренний мир, и, обращаясь к больной возлюбленной, вступая с ней в диалог, дает поэту направление для познания глубин этого мира:
ровный свет надо всем, молодой от соседних озер,
будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый собор,
если нет его там, то скажи ради Бога, зачем
мое имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный небыстрый и мутный ручей.
В глубине этого мира — Бог.
А. Азаренков уместно отмечает, что «аронзоновская поэтическая “мистика” очень близко подходит к мистике канонически-православной, понимающей сердце — сокровенную глубину человека — как переходную среду между человеком и Богом»[15]. Можно сказать и больше, письмо Аронзона узнает в сердце человека — космос, а в самом человеке — Бога, свет Его. И хоть путь этот интуитивен, дается исключительно в «бедных», словно сомневающихся формулировках «будто там», «если нет», «мутный», как указывает на то Азаренков, он доходит до определяющей все дальнейшее творчество Аронзона точки. Здесь можно уточнить, что вопрошание о Боге в поэтике Аронзона не является сомнением в его картезианском смысле, но вместе с неточными формулировками выстраивает общую элегическую, недосказывающую тенденцию текста, указывая на трудность постижения внутреннего, его невыразимость в известных человеку категориях.
Неслучайно в православной мистике так велико значение тайны, в священном действии которой невидимая благодать Божья непостижимым образом сообщается верующему в видимом. Познать тайну в строгом смысле слова невозможно. Но указать на нее — еще как. Здесь, кажется, поле домашней семантики расширяется до максимально возможных пределов, интимной темой становится само божественное. Непрямое утверждение этой темы, с одной стороны, открыто к другим ответам, дает возможность адресату самому решить экзистенциальный вопрос, самому свободно выбрать — в этом смысле оно христологично.
С другой же, через намеки речь Аронзона включает читающего в переживание тайны, приобщает его к опыту самому сокровенному из доступных. Как ни странно, поэтическое открытие оказывается созвучным мыслям философа Н. Бердяева. Он писал: «В тайне творчества открывается бесконечная природа самого человека и осуществляется его высшее назначение. Человеческая природа — творческая, потому что она есть образ и подобие Бога-Творца»[16].
Так, лирический герой сталкивается со своей природой. В обращенности к любимой, развертывании внутреннего творческого диалога с ней он находит основу для соприкосновения с глубинами человеческого мировосприятия, познает себя через фигуру другого. Несмотря на то, что тексты Аронзона разделяют одни конструктивные принципы с посланием и элегией, природу адресации, задающую творческую направленность его любовной лирики, нельзя ограничить рамками жанрового наследия.
Обращение не жанровый прием, но способ существования речи, в которой смысл рождается из предвосхищения диалога с кем-то. Если попытаться проанализировать послание и элегию с точки зрения их обращенности, то можно обнаружить, что они раскладываются на простые языковые единицы — указательные местоимения, повелительные наклонения, звательные формы.
Лингвист Р. Якобсон понимал обращение как отдельную (конативную) функцию языка, требующую вследствие своей ориентации на адресата отличного, самобытного синтаксического, морфологического и даже фонологического оформления высказывания[17]. Тем же вопросом занимался философ М. Бахтин: с его точки зрения адресованность высказывания — его конститутивная особенность, без которого высказывание невозможно. Он формулировал это следующим образом:
Высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль других, для которых строится высказывание, исключительно велика. … эти другие, для которых моя мысль впервые становится действительною мыслью (и лишь тем самым и для меня самого), не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет от них ответа, активного ответного понимания. Все высказывание строится как бы навстречу этому ответу… Кому адресовано высказывание, как говорящий (или пишущий) ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на высказывание — от этого зависит и композиция и — в особенности — стиль высказывания[18].
Иными словами, обращенность как некоторая модальная установка говорящего и как предвосхищающий образ его адресата формирует весь строй речи. Бахтин, различая речевые стили на этом основании, отводит особое место интимному: «Интимные стили основаны на максимальной внутренней близости говорящего и адресата речи. Интимная речь проникнута глубоким доверием к адресату, к его сочувствию… В этой атмосфере глубокого доверия говорящий раскрывает свои внутренние глубины. Этим определяется особая экспрессивность и внутренняя откровенность».
Очевидным примером интимного стиля может быть эпистола, письмо. Важное значение переписки в отношениях Леонида Аронзона с женой уже было вскользь отмечено в этой статье, однако стоит остановиться на этом подробнее. Письма Риты Пуришинской представляют собой не только важный документ неофициальной культуры Ленинграда, но и воплощение ее интимной речи, которая, безусловно, влияла на поэтическую практику поэта. Прежде всего, обстоятельства разлуки и активное общение в переписке — Рита в госпитале, Леонид в экспедиции, — формировали особые образы супругов, в частности образ Риты, страстной и верной жены. Достаточно прочесть небольшой отрывок из ее писем, чтобы в этом убедиться:
Ты — надежда. Ты — весь смысл. Ты — жизнь, всё. Вне тебя нет ни одной пылинки, ни от тела, ни от духа. И то, что в сердце болит, и то, что ночами выхаживается, и то, что в воде отражается. Видишь: руки мои, живот, есть мозг, нервы — ниточки, ещё что-то, что не понять и не увидеть, много, много. А без тебя — ничего[19].

Экспрессивность ее речи, фрагментарность, ломаный ритм — все это с необычайной силой отражает ее внутренние качества. В то же время направляет ее речь стремление определить своего возлюбленного (надежда, смысл, жизнь), обозначить хоть как-то в словах его значимость для нее. Обращенность, данная в представлении Риты о своем муже, позволяет узнать ее, позволяет раскрыться с ним и через него, открывая бытие в его диалогическом напряжении. Те же стремления, ту же обращенность можно обнаружить в любовной лирике Аронзона. Однако прежде необходимо сказать пару слов о том соотношении языка и поэзии, которое позволяет анализировать и сопоставлять адресацию в письме и лирике.
Если следовать мысли языковеда Ф. Буслаева о том, что происхождение языка есть первая «попытка человеческого творчества», а слово — «не условный знак для выражения мысли, но художественный образ, вызванный живейшим ощущением, которое природа и жизнь в человеке пробудили»[20], и помнить, что слово реализуется и развивается в поэзии, которая есть художественная организация чувственного опыта, то можно заключить: поэзия наследует языку. Она продолжает его надындивидуальный творческий процесс, проявляясь как в фольклоре, так и в индивидуальной образной речи, всегда определенной языком, но открывающей в каждом значении его — новые смыслы через авторскую поэтику.
В русской теоретической мысли вопрос соотношения языка и поэзии разрешается в аналогии слова и искусства. Так, философ П. Флоренский отмечал сходство языковой и художественной структур: «Слова суть прежде всего конкретные образы, художественные произведения, в малом разрезе»[21]. Видел в словах художественность, «саму поэзию» и отечественный языковед А. Потебня, указывая на сопряженность акта называния вещи, лежащего в основе происхождения языка, с её образом. Образ для него — чувственное представление, творческая мотивировка непосредственного впечатления человека от предмета, зафиксированная в «языковой памяти»[22].
Взаимосвязь образности и языка А. Потебня закрепил в концепте внутренней формы слова, заключающей его ближайшее этимологическое значение и отсылающей к совокупности чувственных данных, спровоцировавшей номинацию. Образ дает направление мысли, запускает процесс понимания явления в слове: «окно», например, заключает в себе как внутреннюю форму образ «ока», через который открывается вид на внешний мир; а «стол» связан с представлением о стелющемся (корень стл-), что этимологически роднит его с «постелью». В обоих случаях первоначальный образ задает основу для осмысления явления, но не исчерпывает его, допуская развертывание субъективных значений. Так, слово, опираясь на механизм своей внутренней формы, способно действовать как символ, отсылающий к новизне и живости конкретного восприятия, в котором впервые оформляется связь человека с вещью. Именно эта символичность, коренящаяся в памяти языка, и составляет поэтичность слова: оно оказывается не просто знаком, но образом, в котором сохраняется динамика чувственного и мыслительного, реального и воображаемого.
В той мере, в какой язык поэтичен, поэзия оказывается способом актуализации его творческого потенциала, оживляя представления в речи. Она позволяет заново обретать мир в языке. Она обнажает процесс образного синтетического осмысления, всегда создающего из частей уже полученного опыта новое видение вещи. В этом отношении особенно показательна мысль русского формалиста В. Шкловского, утверждавшего, что цель поэтической речи — «дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание»[23], вывести восприятие из автоматизма, «остранить» его.
Если привычное в языке больше не переживается, а лишь узнается, если словесный образ забыт, мыслится как схема, то единственным путем к обновлению, динамизации языкотворчества может быть только поэзия. Более того, сильнейшим выражением этой тенденции становится именно авторский голос, в котором язык возвращает себе силу впечатления через глубоко личное. Поэт не просто субъект речи, он может пониматься как предельный выразитель языка в его самотворении. В контексте, учитывающем эту особенность поэтического, исходная образность языка не просто ориентирует отдельное творческое «Я», служа для него средством создания новых мыслей, но реализуется и растет во взгляде поэта, предоставляя возможность индивидуального варианта становления смысла слова.
Авторская поэтика же, будучи частным проявлением общего механизма образного осмысления, представляет конкретизацию внутренней формы: она развивает творческую направленность языка, продолжая надындивидуальный принцип в личном высказывании. Так, язык проявляет себя как поэзия, а поэзия становится встречей с его структурой, способом продолжить его творение и оживить восприятие через форму. В отношении любовной лирики Аронзона, адресованной его жене, можно сказать следующее: лирика наследует интимному эпистолярному стилю.
Как и письмо, вся она — слышание себя «в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с другими и для других»[24]. Как и письмо, она полна недоговоренности, фрагментарности, что уже было обозначено. В то же время она привносит в его форму свое индивидуальное «видение», свою поэтическую конкретизацию. Обращение само по себе предполагает интимность, познание, обнажение самого себя через язык, направленный на диалог с другим, но в то же время в поэтической плоскости такое обращение всегда будет публичным, не сможет не допускать стороннего читателя.
Тексты Аронзона, следуя традиции пушкинских обращений, требуют позиции интимного знакомства с поэтом, просят случайного читателя вообразить в тексте — высказывания близкого человека, любимого, обладающего «уникальной общностью памяти с ним и потому способного изъясняться намеками»[25].
Можно сказать, что в адресованности лирики Аронзона актуализируется внутренняя форма обращения как языковой функции, обостряется ее символический аспект: как образ «ока» задает основу для индивидуальной интерпретации окна в языке, так и ограниченная образная структура (устойчивые многозначные поэтизмы, намеренная сжатость авторского словаря[26]) аронзоновского текста предполагает неполноту выражения, открытость читательскому со-творчеству. Неслучайно, по выражению литературоведа И. Кукуя интонация Аронзона была названа «не властной, а наоборот — освобождающей».
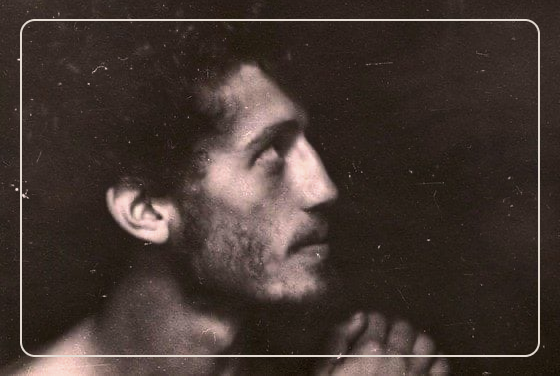
В освобождающей тенденции его творчества развертывается и образ адресата любовной лирики — Риты, Рики, жены. Любое высказывание строится на своей обращенности к другому, на представлении этого другого в момент речи. Конкретизация этого другого в тексте, этого «ты» — способ понять ценностную доминанту в творчестве. Лирическое «Я» Аронзона часто старается определить свою возлюбленную, подобно тому, как это пыталась сделать Рита в своем письме («Ты — надежда. Ты — весь смысл. Ты — жизнь, все»). Например, в стихотворении «Сохрани эту ночь у себя на груди»:
ты вся шелест реки,
вся — шуршание льдин,
вся — мой сдавленный возглас и воздух.
Или в стихотворении «Август»:
ты вправлена в дожди, ты темный дождь, ты влага
ночных полей, где только одиноко
маячит столб вдали.
Однако же в поэтическом тексте, в специфике недоговаривающего письма Аронзона все определения возлюбленной оказываются разомкнутыми, как бы подчеркивая всю значимость адресата, всю широту подразумеваемой невыразимости образа жены. Обращение устремляется к неопределенному, потенциальному другому, которое обрастает качествами наблюдаемого — реки, льдин, дождя — и выстраивается в пейзаж.
Р. Якобсон отмечает, что превращение отсутствующего или неодушевленного объекта высказывания в адресата — есть «магическая, заклинательная функция» языка. Он приводит в пример севернорусские заговоры:
Вода-водица, река-царица, заря-зорица! Унесите тоску-кручину за сине море в морскую пучину... Как в морской пучине сер камень не вставает, так бы у раба божия имярека тоска-кручина к ретивому сердцу не приступала и не приаваливалась, отшатилась бы и отвалилась[27].
Нечто схожее можно обнаружить и в обращенной речи Аронзона, которая, пытаясь конкретизировать своего адресата, не находит ничего лучше как обратиться к его отсутствию, к его образу, явленному, например, в реке:
Снова тени в реке. Слабый шелест реки,
где у кромки ломаются льдины,
ты — рождение льдин,
ты — некрикнутый крик,
о река, как полет лебединый.
Так, тексты-обращения Аронзона обретают черты ритуального призывания, заклинания или славословия, непомерно возвеличивая, сакрализуя свой адресат. По этому поводу уместное добавление делает исследователь аронзоновского творчества П. Казарновский: «в назывании своих адресатов сразу несколькими именами [есть] … возведение их в божественный статус, согласно которому божество имеет множество имен»[28]. Действительно, различные формы обращений — Рите, Рике, Жене — способствуют задаче призывания, обозначают возлюбленную как объект почитания поэта, единственный и в то же время множественный по своей манифестации.
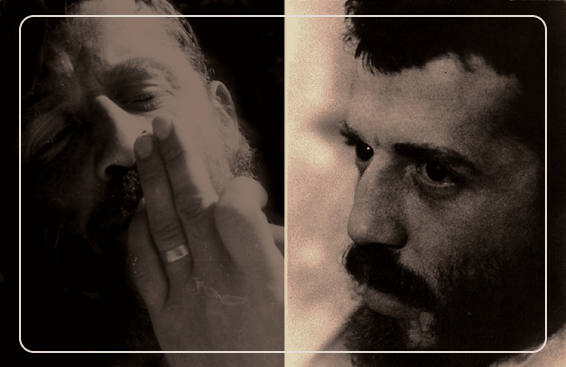
Стоит отметить, что помещение современной поэзии в мифологический контекст, сопоставление ее с архаическими ритуалами и формами словесности не должно рассматриваться как произвольное. Разделенные веками культурных различий поэзия и миф связаны, но опосредованно. Связующим элементом между ними выступает фольклор. Ф. Буслаев так писал о связи народной поэзии с современной, индивидуальной по своему характеру:
Народная поэзия, стоя вне личного произвола, представляет в наибольшей правильности и чистоте, во всей первобытности, самые существенные свойства поэтического творчества. Сверх того, не надобно забывать, что, по самому акту творчества, произведение отдельного поэта эпохи образованной состоит вовсе не в противоположности с народною поэзиею, но в некотором её подчинении <…> Именно в этот-то отношении заслуживает особенного внимания давно известная эстетикам мысль, что на эпическом основываются прочие виды поэтических произведений[29].
Иными словами, по мысли Буслаева, принципы фольклора, подобно языку, преломляются и обновляются в поэзии новейшей.
Исследователь Д. Баюнов, развивая мысли В. Проппа о непрерывности, «постоянном движении и изменении»[30] народного словесного творчества, утверждает, что миф составляет исходный формальный принцип фольклора. Если сравнить миф с малыми жанрами, например, с заговором, на уровне формульных схем, можно обнаружить использование аналогичного художественного принципа двучленного параллелизма. Так, у папуасов Новой Ирландии встречается формула «вепрь перевертывает землю, ямсы перевертывают землю», а в русском заговоре — «как кипит под землю летом беспрестанно белый ключ, так бы кипело, горело сердце и душа у Ивана по мне, Марье».
Учитывая формальное сходство и общность магической телеологии, Д. Баюнов соотносит миф и заговор: первый возникает в свете мистического сопричастия явлений, обуславливается обрядовым комплексом, второй же повторяет его устройство в обстоятельствах десакрализации и общедоступности, продолжая бытовать в народной культуре как пережиток мифологического процесса, как профанирующий миф. Эти наблюдения указывают на непосредственную связь мифа и фольклора, намечают восхождение структуры фольклора к мифологическим корням, древнейшим историко-культурным перспективам.
Поэзия, в этом контексте, в частности поэзия Аронзона, тяготеющая к заклинательному обращению, может рассматриваться как форма, унаследовавшая от фольклора связь слова с мифом и ритуалом, и требовать соответствующего сравнения как с фольклорными текстами, так и с общими особенностями мифологического мышления первобытного человека.
В архаических представлениях тотемизма множественность имен выражает многообразие проявлений единой жизненной силы. У папуасов маринд-аним это называется словом дема, у арунта — алчера, у народов северо-западной Австралии — вонджина и унгунд. Вонджина обозначает образ предков вообще, в честь которых совершаются церемонии вроде интичиума, почитающие их как метафизических (неорганических, не собственно человеческих) существ. При этом вонджина обозначает не только самих предков, но и жизненную силу, а через унгунд — связана со сном. Обращение к этим силам одномоментно личностно и безличностно: оно направлено к конкретному образу, но взывает всеобщий порядок бытия.
Э. Тайлор, один из основоположников современной антропологии, заметил, что в языке поэта говорит древний человек, что «поэт в наше время имеет много общего с умственным состоянием нецивилизованных племен на мифологической стадии мысли»[31]. Так, специфика аронзоновского обращения устремляется к тому, что можно наблюдать в языке древних, распадаясь на отдельные номинации и образы. У Аронзона жена может быть бабочкой, рекой, дождем, садом, Лаурой и Семирамидой, Данайей и Клеопатрой. Однако все это суть рассмотрение одного объекта поэтического почитания с разных сторон, его многоликость и неохватность.
Поразительным сходством с архаическими структурами ритуальной речи является формульность отдельных стихотворений-обращений Аронзона. Э. Тайлор приводит характерные черты молитв и заклинаний, одна из которых — повторяемость, воспроизводимость формулы призывания:
Современный индуизм полон древнего поклонения солнцу, выражающегося в приношениях и земных поклонах, в ежедневных обрядах и установленных празднествах. Именно Савитар, солнце, призывают индусы в «гайятри», древней, освященной временем формуле, из века в век ежедневно повторяемой каждым брахманом: «Станем размышлять о желанном свете божественного солнца, да возвысит оно наши умы!
Ту же повторяемость можно обнаружить в текстах поэта, направленных на определение фигуры жены. Например, в стихотворении «Сохрани эту ночь у себя на груди»:
Поэтическим привнесением в эту структуру, как кажется, является циклическое обновление образа. Река шелестит, шуршит, уходит под лед и снова рождается, сохраняя ту же ритмику в новом виде. Подобно архаической формуле, обращение к жене повторяет свои ключевые элементы, закрепляя адресата через вариации образа. Каждое повторение одновременно констатирует присутствие и открывает новые грани внутреннего переживания о возлюбленной. Формула, произнесенная в ритуале, фиксирует порядок бытия, у Аронзона же повтор одних фрагментов конструирует образа любимого в ускользании собственной речи. Это ускользание надо понимать как характерную черту самого представления поэта об адресате: бескрайнего, сверхъестественного, непосильного для письма.
Адресация в лирике Аронзона, таким образом, особенна в трех моментах. Во-первых, обращаясь к своей жене в интимном тоне, доверяя ей и одновременно стараясь определить ее в своих чувствах, лирический герой обращается к ее отсутствию, к разверзднувшийся бездне самого себя. Адресованность в поэтическом тексте, по свойству самой поэзии работать с образами, провоцирует ориентацию на внутренний диалог с воображаемым адресатом, предположение потенциального ответа, моделируя ситуацию коммуникации с автореферентной функцией.
Во-вторых, ситуация диалога с женой, разыгрываемая в поэтическом сознании, приводит к намекам, неполноте выражения, образной вариативности, что активизирует роль воображения читателя, требует от него разделить интимную установку текста.
В-третьих, в соединении этих аспектов — адресованности и семантических лакун — лирический герой открывает возможность самопознания через другого как в экзистенциальном, так и в метафизическом планах, вовлекая читателя в аналогичный процесс обращения к собственному внутреннему опыту через символическую направленность текста.
Речь Аронзона к другому неизбежно становится о другом, о неуловимом, сокрытом. Может быть, поэтому любовное обращение имеет особое значение для всей его поэтики: движение к любимой в нём становится способом возвращения к себе, языку, мифу.



.svg)




