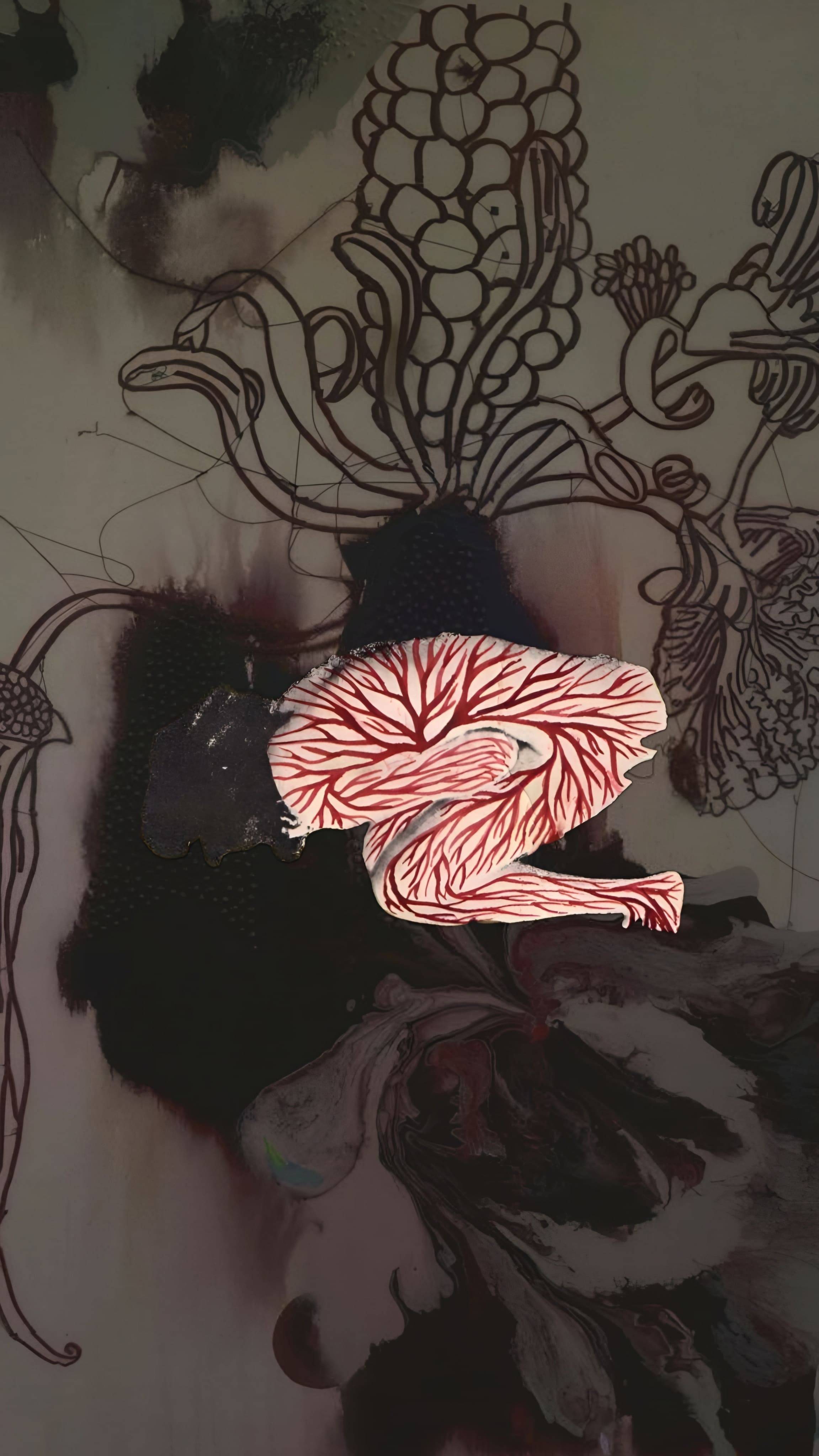«Это же не очень нормально – подглядывание за жизнью. Как это из реальной крови, из жизни людей делать искусство?»[1]
– Сергей Дворцевой
Сергей Дворцевой как документалист вырос на почве двух противоборствующих лагерей, различно определяющих явление неигрового кино. Там, где одни находили в документалистике способ запечатления и созерцания жизни, другие видели средство самовыражения и донесения собственных мироощущения и мировосприятия.
Представители первого лагеря – «кино-как-созерцание», назовем его так – определяли документальное кино задачами запечатления[2] подлинных событий жизни, обновления мировидения человека. Они восстанавливали в правах изначальное качество кино, реабилитировали люмьеровский принцип, восходящий к понятию «документа» как зафиксированной камерой, видимой правды окружающего мира.
Опираясь на схожее оптическое устройство объектива и человеческого глаза, сторонники парадигмы «кино-как-созерцания» отдавали приоритет камере, способной наблюдать объекты действительности пристальнее, созерцать видимое конкретно и буквально, без отвлечённых суждений или идей. Их метод был определён динамикой самой жизни, попытками «увидеть мир заново» через объектив, потому они принципиально не вмешивались в материал, принимали действительность такой, какая она есть перед объективом.
В этом же ключе рассуждал и Дворцевой: он, по собственному замечанию, «снимал фильмы, идя за жизнью, доверяя ей, опираясь на принцип сиюминутности»[3]. Однако общая система его взглядов активно формировалась под влиянием противоположного лагеря, который можно определить в рамках фразы «кино-как-высказывание».
Сторонники этой парадигмы стремились отразить свой взгляд на мир, оживить свое видение с помощью кинематографической формы. Несмотря на то, что в основе таких спекулятивных документальных фильмов, «фильмов-высказываний», стоит общее грирсоновское представление о кино как о «творческой интерпретации действительности»[4]; они различаются, и прежде всего тематически. Различные проявления, в сущности, одной тенденции важны для нас в контексте деятельности Дворцевого, поскольку ему, выросшему в рамках принятой в кинодискурсе парадигмы «кино-как-высказывание», приходилось выбирать именно между ними.
Так, можно говорить о социально-политическом фильме-свидетельстве, основная задача которого – обратить внимание широкой общественности на социальную или политическую проблему, а в конечном счете навязать определенное отношение к ней. Ленты такого рода, как правило, имеют публицистический акцент и стремятся доступно и непосредственно выразить идею – то, что мы сейчас назвали бы кинопропагандой.
А можно говорить о поэтических документальных фильмах, развивающихся согласно законам других искусств. Фильмах, что отражают взгляд автора на абстрактные категории, задевают важнейшие для человечества вопросы: бытия, мироздания, собственной природы. Иногда данное проявление кинодокументалистики называют абстрактным и неслучайно.
Суть подобных лент емко описал Зигфрид Кракауэр в книге «Природа фильма»: они лишь «производят впечатление сфотографированной живописи, обогащенной измерением времени», авторы во время создания таких работ «пренебрегают основными свойствами выразительных средств кино», отдают «явное предпочтение абстракциям перед открытиями кинокамеры».
Между пропагандой и искусством Дворцевой выбрал второе, и его выбор для по-настоящему заинтересованного в кинематографии человека вполне закономерен. Ибо сама претензия неигрового кино на звание искусства отстаивала право кинематографистов на свободу самовыражения, возвышала документ и его «автора» в глазах специалистов, и, как профессия, заслуживала уважения окружающих людей.
Кроме того, стремясь именно к искусству, документалист стремился и к уникальности кино, к тому, что составляет его уникальность. Как художник, Дворцевой понимал, что любое истинное искусство рождалось независимым, и потому путь режиссера, что в дальнейшем будет раскрыто, обозначился исканиями самобытного явления кино.
Однако полностью довериться самоопределению документалиста и называть его деятелем искусства было бы неверно хотя бы потому, что многие высказывания режиссера противоречат друг другу – они представляют эклектику, охватывающую, в сущности, весь современный кинопроцесс. В самой фразе «документальное кино – искусство» содержится предположение, отождествляющее два взаимоисключающих понятия.
Если предметом запечатления камеры становится нерукотворная жизнь, если камера регистрирует уже имеющуюся видимость нашей реальности; то откуда может возникнуть символическое, требующее рукотворности воплощение творческого «Я» художника – заново созданная видимость, свойственная произведениям искусства?
Как-то исчерпывающе об эклектизме советских документалистов высказался режиссер Сергей Скворцов:
С одной стороны, им хотелось превратить документальное кино в искусство, в противоположность пропаганде, с другой – они хотели, чтобы это была только правда жизни, все как есть. Но искусство – это способ непрямого говорения, а они пытались убедить себя и доказать зрителю, что вот это и есть жизнь[5].
Взгляды Дворцевого не шли вразрез с дискурсом: они иллюстрировали как ранее выявленную эклектику, так и догматизм сторонников парадигмы «кино-как-искусства».
Режиссёр говорил, что «любой документальный фильм – это сделанный фильм, то есть это преломление взгляда режиссера на действительность»[6], и тем самым отождествлял правду запечатления камеры, зрения механического кино-глаза с правдой видения автора, правдой художественной. В конце концов, с правдой человеческого зрения.
Художественная правда условна и ограничена взглядом творца. В основе любого произведения искусства лежит стремление выразить мироощущение, мировосприятие автора. И своего абсолюта это стремление достигает в абстрактном искусстве, в момент разрыва с концепцией репрезентации действительности, мешающей полноценному самовыражению художников.
Как справедливо отмечал Фуртичев: «Пафос абстрактного искусства – максималистское стремление выразить субъективную идею автора без “помех” материального мира»[7]. Правда же документальная, происходящая из всегда документальной камеры, буквальна, фотографична. Ее суть восходит к представлению Луи Деллюка о фотогении: для киноаппарата важно «максимально проникнуть в предмет» действительности, а не создать его заново[8].
Противоречие данного представления разрешается просто. Нужно оставить «художественную правду» – правду личного мнения – и искать адекватный подход к кинематографическому всегда буквальному запечатлению, как это понимал Альберто Кавальканти. Он писал:
Кинокамера воспринимает все настолько буквально, что, покажи ей актеров в театральных костюмах, она и увидит актеров в театральных костюмах, а не персонажей фильма[9].
В свою очередь, без камеры не возникнут кадры, без кадров невозможен монтаж, наконец, без монтажа – конечный результат, фильм. То есть, фактически без камеры невозможно кино, возникающее в сумме кадров (или даже одного безмонтажного плана), аккумулирующих в себе суть кинематографического запечатления, его качество. Поскольку же камера онтологически документальна, буквальна в своем запечатлении, то и подлинное кино – кино документальное.
А там, где вымысел, не может быть документального кино. Справедливо в этом отношении писал В. Манский*: «Как только документальное кино стало искусством, оно перестало быть документальным»[10]. Мы, преждевременно обратив внимание на главного актора кинематографического процесса – камеру, продолжим его суждение. Там, где художественная правда, нет не только правды изображения, но и самого кино.
Дворцевой, определяя кино искусством, относится к нему как самобытному явлению, требующему определенной формы, особого, оригинального подхода к материалу в согласии со средством «творческого» процесса. Фактически понимание документального кино как искусства, как независимого явления привело его к поиску такой методологии, которая бы отвечала самобытности документа.
Желая делать «кино-как-высказывание», зависимое при создании от средств других искусств, Дворцевой на деле разрабатывает уникальный, удовлетворяющий положениям парадигмы «кино-как-созерцание» метод чисто кинематографического запечатления, лишённого необходимости в иных художествах. Способствовало тому и особое место документалиста в дискурсе. На заре его деятельности именно невовлечённость в эклектичные суждения и догмы теоретиков стало ключевой причиной в формировании столь конкретного и простого подхода к кино.
«Думаю, тут мне помогло то, что я ничего не знал о кино. <...> я был лишен "академических" штампов напрочь, что компенсировалось наблюдательностью. Меня всегда удивляло, <…> почему нельзя было просто показать течение жизни?»[11] – отмечал Дворцевой.
Такие рассуждения привели режиссёра от зависимого положения сторонников «кино-как-искусства» к съёмкам кино-вещей, то есть фильмов, по Дзиге Вертову, адекватных самобытной сущности кинематографа, обладающего своим, отличным от других искусств «нигде не краденным ритмом»[12].
Мнимо художественный, а, на самом деле, подлинно документальный, метод Дворцевого резко расходился с восприятием собственной роли. Так, режиссер всегда уважительно относился к снимаемым героям. Он был готов «высиживать эпизоды», снимать подолгу в поисках подлинного материала. Буквально созерцать наблюдаемые явления со своими героями.
В беседе «Документ и вымысел» он говорил: «Свой язык – это когда у тебя есть герой, есть жизненная ситуация и ты как режиссер её просто должен изначально попытаться почувствовать», то есть подчиниться снимаемой действительности.
Данные решения для него, по его собственному замечанию, есть художественное исследование языка, есть «прощупывание кинопространства», однако решениями мы можем назвать их лишь условно. Ибо решение подразумевает реализацию художественного средства во время съемок, а Сергей Дворцевой «решает» не творить, решает довериться камере, раствориться в наблюдаемых событиях.
Его язык определяется особым подходом к каждому объекту, самим этим объектом – подчинением процессу запечатления камеры, что дискредитирует саму идею языка. Ибо, во-первых, Дворцевой минует символизм языковых конструкций, доверяясь камере, репрезентует исключительно означаемое – нетрактуемый и самозначный документальный образ.
А, во-вторых, в его подходе отсутствует сформированная структура отношений к различным объектам, свойственная языковой системе. Язык подразумевает авторский подход, Дворцевой же выбирает нечто другое:
Моя задача снять жизнь как нечто развивающееся само по себе. Я не знаю, что произойдет в следующую минуту; я могу только предполагать, ждать, но не вмешиваться в естественный ход событий. Никаких “подтяжек”, технических фокусов – только живая жизнь…[13]
Именно материал подсказывает документалисту методы и способы его фиксации и последующей организации. За «импровизированным» изображением, способностью оператора подчиняться «всем неожиданным положениям, продиктованным событиями, протекающими перед камерой»[14], следует «импровизированный» монтаж – организация, продолжающая природную особенность кинокамеры слагать фото-кадры в единую линию движения жизни.
Данная закономерность была выявлена еще режиссером Крисом Маркером, заметившим, что на стадии монтажа изначально задуманная в сценарии взаимосвязь тем шла вразрез с характером отснятого материала, что «фильм становился самостоятельным организмом и развивался по собственным законам»[15].
Свой «Хлебный день» (1998) Дворцевой не пытался сложить в умозрительную формулу и свидетельством тому произвольная последовательность разных планов-эпизодов: происходящие с домашним скотом «события» переплетаются с рутиной жителей и образуют одно спрессованное «движение хлебного дня».
Он не укорачивал кадр в угоду концепции, а импровизировал изображение, поддаваясь ритму движения объектов, находящихся в кадре. Так, например, эпизод с козами у порога принципиально не кончается до тех пор, пока все козы не выйдут далеко за пределы кадра, и тем самым дарит нам опыт близости с животным миром.
Важно также, что этот план не эстетизировался Дворцевым: в рамках хронометража несколько раз менялась композиция кадра, и режиссер с оператором не вмешивались в этот процесс, а наоборот полагались на движение коз, стараясь четко зафиксировать их в разных положениях.
Если задачи высказаться у режиссера не было, если его подход всегда был подчинен логике снимаемого объекта, то значит ни о каком языке, как о властной авторской структуре не может быть речи. Как справедливо подметил Владимир Грунин: «Когда в картине появляется жизнь, тогда появляется язык. Нет жизни – нет никакого языка»[16]. Иными словами, если и существует какой-либо язык кино, то это сама жизнь говорит со зрителем через «нетронутый» материал. И не столько говорит, не столько пользуется языком, сколько показывает.
Дворцевой как художник-искатель на самом деле ничего даже не придумывал, а лишь пытался уловить тончайшие жизненные процессы, пытался застать жизнь врасплох, медитативно проживать её со включенной камерой. Его подпитывало желание «прочувствовать» героев, а не использовать их в целях высказывания. Мечтавший об искусстве режиссер всё-таки делал кино, подчинялся в своей «чувствительности к жизни» совместно с кинокамерой.
Вот, как он сам описывал свои творческие взгляды еще в 1997 году:
Хочется снова остаться один на один с жизнью, говорить о том, что больше не повторится, о цене мгновений. Для меня в этом суть документального кинематографа[17].
Как автор, Дворцевой фактически вставал в позицию самоисключения, его больше заботило желание увидеть действительность и изобразить её в полной мере, нежели высказать своё мнение о ней.
Фильмы, которые он снимал в то время, целиком удовлетворяли его творческим исканиям. Так, своих героев из «Счастья» (1995) он своевременно встречал волею случая: «Меня поначалу подозревали, что я тоже выбрал своих героев по какому-то принципу.. <…> На самом же деле я мотался по степи без видимой цели, пока не встретил парня-чабана из кочевой семьи».
«Случай» впоследствии и поддался Дворцевому. Ему удалось запечатлеть мгновения, поражающие своей непосредственностью: малыша, только-только измаравшегося кашей, но уже засыпающего на наших глазах; телёнка, засунувшего голову в узкое горлышко бидона с водой да так, что вся семья собралась его вытягивать!
Во время подготовки к «Хлебному дню» Дворцевой переехал на три месяца со съёмочной группой в заброшенный поселок, расположенный в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Там он слился с бытом жителей, доверился тихой сельской жизни, а она – доверилась ему, чужому. Дворцевой не исключает из финального монтажа кино-вещи и так называемого «сырого художественного» материала: когда герои напрямую контактируют с операторами, обозначая их присутствие.
В рамках художественного взгляда такие фрагменты можно действительно счесть сырыми, поскольку они разрушают представление о рукотворности видимого мира – выходит, что авторы не создали своих героев, а лишь зафиксировали их посредством камеры. Однако режиссёр не вырезает их. Для него важно оставить продавщицу, требующую прекратить снимать её, поскольку именно эти возгласы удостоверяют киноаппарат как созерцателя происходящего и дарят зрителю, воспринимающему видимое глазами камеры, опыт присутствия в жизни поселка.
Тот же метод можно проследить и в фильме «Трасса» (1999). Во время съемок всех этих лент документалист обнаруживал в рутине с помощью камеры уникальное многообразие жизни и подтверждал в том же интервью 1997 года: «По мере того как я все больше и больше “влезал” в эту жизнь, я понимал, что однообразие только кажущееся. Это внешний слой, сквозь который я должен прорваться, чтобы обнаружить уникальные моменты бытия».
Именно «это» Дворцевой называл «изначально прочувствовать героев и ситуацию». И отчасти он прав: ведь чтобы создавать документальные фильмы, нужно отринуть собственные идеи, пойти «за жизнью, опираясь на принцип сиюминутности». Документалист должен обмануть в себе художника, уверовать в жизнь как в безусловное счастье, не нуждающееся в вымысле, что Дворцевой как делал на определенном этапе своей деятельности, так и озвучивал в интервью: «Жизнь самодостаточна, каждое ее мгновение – это подарок…».
С другой же стороны, он, подобно своим коллегам, не понимал до конца способности кинокамеры, присваивал их всевидящему, «чувствительному к жизни» художнику. В суждениях Дворцевого вскрывается ранее отмеченный догматизм сторонников парадигмы «кино-как-искусства», рассматривающий камеру исключительно как инструмент самореализации человека в формате кино.
Очевидно же противоположное: камера не способна транслировать взгляд автора, кадр – это результат зрения камеры, а не зрения человека. Очевидно также, что эклектичные суждения Дворцевого не соответствовали его работам. В любой другой ситуации мы бы опустили их, однако в данном случае последовательное непонимание возможностей камеры привело к уходу режиссера из документалистики.
Уже в 1999 г. он твердо заявлял: «Любой фильм – это взгляд. Это не просто реальность, а преломленная реальность», – что шло в противоречие с его прежним желанием «остаться с жизнью один на один»[18]. Фактически именно с тех пор во взглядах Дворцевого обозначился перелом.
Его последняя работа «В темноте» (2004) – лента о слепом старике в большом мегаполисе – сохранила черты кино-вещи, однако именно во время её создания обострились новые взгляды Дворцевого, послужившие окончательному отказу от документального кино. При этом во время создания Дворцевой не изменил фильму. Режиссёр исключал возможность замысла, снимал из чистых побуждений запечатления[19]. Иначе быть не могло, ибо даже приходящие мысли документалиста о судьбе своего героя не подкреплялись определённым подходом, а значит не отражались на жизненном материале.
Однако рецензенты достаточно конкретно определили ленту в рамки фильма об одиночестве, «несовпадения человека ни с чем» вокруг[20]. Пусть данной точки зрения не содержалось в самом материале, не сводящемся в простые символические конструкции, нам все же стоит поговорить подробнее о восприятии ленты «В темноте», поскольку сам режиссер оказывался в кругу толкователей её образов, вступая в противоречие со своим же методом.
Так, например, возникающие в голове зрителя символы человеческого одиночества и общественного равнодушия не исчерпывают фильм, хотя с определенной точки зрения они и кажутся ключами к его пониманию. Старик – не символ одиночества, ибо случайно в кадр попадает кровать из другой комнаты, значит он живет не один.
Символ усложняется до уровня жизненной ситуации и в других планах: когда режиссёр решается зайти в пределы кадра, чтобы помочь герою собрать разбросанную бумагу; или когда в полном, на первый взгляд, равнодушия городе, герой встречает старую знакомую. Все события, произошедшие в фильме, не укладываются в систему, они многообразны как сама жизнь, а наши смысловые акценты обуславливаются лишь нашим вниманием.
Акценты для себя расставляет и режиссёр, будучи таким же зрителем, как и мы. Ибо его роль – это роль наблюдателя, подчиняющегося кинокамере, интуитивно воспринимающего видимую действительность.
Дворцевой не создает новой видимой реальности в ленте, а значит она, сотканная из документальных образов, проявлений самой жизни, не исчерпывается его мнением, субъективна. Любые суждения и идеи документалиста о фильме находятся за её пределами, поскольку они не формализуются во время съёмочного процесса, а лишь формулируются после непосредственного просмотра работы или отдельного её фрагмента. Ибо видимая реальность не нуждается в авторе, она говорит за себя.
Во время создания фильма «В темноте» для Дворцевого обостряется этический вопрос документа. Этот вопрос существовал в рамках эклектичной традиции и тяготил «художника» еще до последнего документального фильма. Вот, что он говорил об этике документалистики ранее:
Это же не очень нормально – подглядывание за жизнью. Как это из реальной крови, из жизни людей делать искусство? <...> Есть абсурд в этом. Человек живет, умирает или рождается, … а ты снимаешь, выкачиваешь из этого энергию и делаешь свое кино[21].
Однако запечатлённая жизнь всегда больше мечтаний, с ней связанных, даже если это мечтания режиссёра. И пусть Дворцевой считает ленту своим произведением, признаков авторского вмешательства, системности в ней мы не сможем отследить. Как верно подметила Мария Разбежкина в тексте для «Сеанса»: «Дворцевой не из тех, кто «готов выхолащивать реальность ради концепции».
«В темноте» – такая же подлинная кинематографическая работа, как и все предыдущие фильмы документалиста. Оператор подчиняется камере, и мы вместе с ней наблюдаем за медитативным процессом плетения авосек, хулиганством непоседливой белой кошки, которая в очередной раз неаккуратно пробежится по шкафу или убежит играть с клубком ниток.
Этический барьер же возникает на пути Дворцевого именно потому, что он считает свой фильм (художественным) «исследованием человека»[22]. Режиссер оказывается заложником собственной догматики: считая «документ» еще одним искусством, высшим проявлением человеческого начала, он ожидает от него гуманности.
Дворцевой сомневался в моральности документа, однако оказалось противоположное: именно художественность может привести к полному исключению этических категорий и даже навредить героям фильма. Сам режиссер чувствует, что использовать живых людей ради воплощения собственного взгляда на экране аморально. Ибо автор, встраивая человека в общую систему своего мира, фактически превращает его в «безжизненный» символ, обесчеловечивает его.
Камера же, считавшаяся инструментом самовыражения художника, на самом деле, всегда буквальна и внимательна, то есть готова фиксировать все, что попадает в её поле зрения, показывать живых людей, а не символические конструкции, и тем самым провоцировать гуманное отношение, сочувствие к «реальной крови» у зрителя.
Дворцевой не может свободно реализоваться на основе жизненного материала, он ограничен как автор. Его решение уйти из документалистики можно объяснить осознанием своих желаний и сущности неигрового кино: режиссер был не готов фиксировать действительность просто так, оказалось, что больше всего его привлекала именно «граница допустимого», запечатленная на камеру.
Вот, как сам Дворцевой комментировал свой уход из кинодокументалистики в одном из интервью, на которое мы ссылались ранее:
Передо мной встал чисто этический барьер: чем глубже я заходил, исследуя человека, чем хуже было для моего героя, тем лучше было для меня, как для создателя фильма. Когда это стало выходить на передний план, я перестал понимать, что делать. <...> Человек делился самым сокровенным, а я удовлетворённо потираю руки? Когда я делал последнюю картину о слепом старике, то понял, что он даже не может увидеть, что я о нем снял, и это – слишком абсурдно. <...> Режиссеру документального кино приходится вторгаться в частную жизнь моих героев. А в игровом кино этого не было. В итоге я увидел, что и игровое кино способно менять судьбы людей, но делает оно это постепенно.
Этическая дилемма взяла верх над документалистом и фактически конкретизировала его эклектичные взгляды. Он капитулировал перед сущностью киноматериала, осознав ограниченность творчества в такой форме.
Важно будет упомянуть в связи с этим суждение Александра Сокурова, еще одного художника, не способного полно реализовать себя в рамках киноформы. Он говорил:
Главным врагом был и остается, на мой взгляд, оптика…<...> (она) вмешивается в саму суть, она настаивает на том, что она внутренне, подспудно продолжает быть соавтором. <...> что кинематограф в полной мере не может быть назван искусством, потому что у него нет всех тех степеней свободы, какие необходимы для того, чтобы существовать и развиваться[23].
Подобную мысль разделил бы художник Сергей Дворцевой, ушедший окончательно в игровую форму. Если оптику и можно назвать врагом, то врагом искусства, личным врагом Сокурова и Дворцевого. Ибо там, где она присутствует, ни один автор не может претендовать на зрительное пространство: её видение буквально и всеохватывающе. Люди, не принимающие сущность кинокамеры, как правило, не понимают и самого кино.
Сергей Дворцевой, с одной стороны, являет собой пример документалиста, чье мироощущение и творческий метод совпали с представлениями «кино-как-созерцания». Режиссера, шедшего за жизнью и создавшего по дороге несколько важнейших, уникальных для современного дискурса кино-вещей.
С другой же, иллюстрация эклектика и догматика, предавшего вместе с документальным кино и себя, превратившегося в ещё одного режиссёра авторского кино. Теперь создатель «Счастья» и «Хлебного дня» снимает художественные истории с документальными вставками. И, в сущности, его новое кино, подчиняющееся актерам, декорациям, замыслу и текстуальному монтажу, перестает быть кино – самобытным явлением, за которое он когда-то ратовал.
И если врагом искусства становится оптика – как считал, например, Александр Сокуров, – то главными врагами кино становятся те, кто пьют «живую кровь», спекулируют материалом действительности и используют кинокамеру в реализации собственных формотворческих потенций.
*Виталий Манский признан Минюстом РФ иностранным агентом.



.svg)