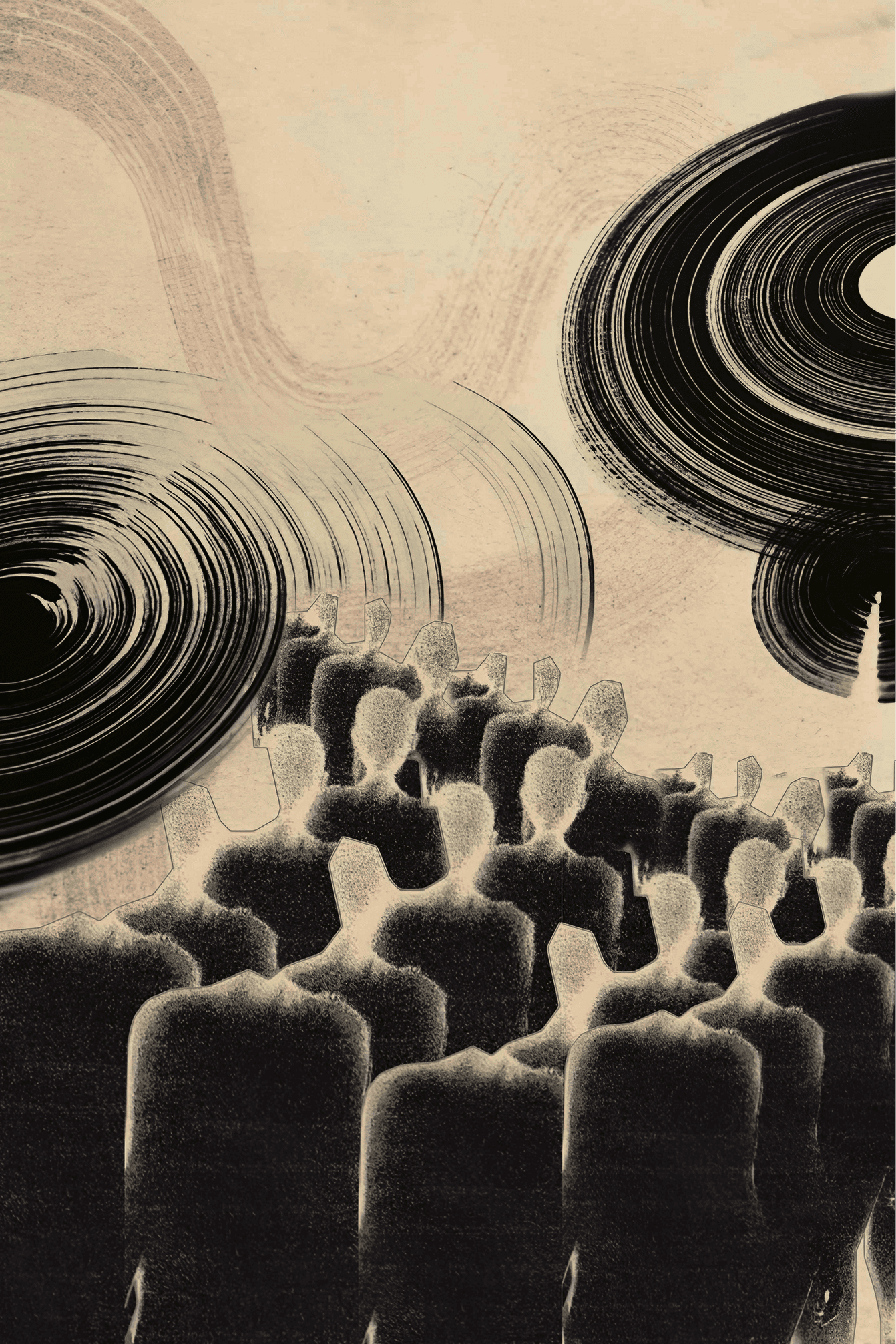«Кино – это динамика жизни и природы во всех её проявлениях, это толпа и её волнения. Всё, в чём есть движение, относится к кино. Его объектив открыт на мир».[1]
– Феликс Месгиш
Звучащее как лаконичный фрагмент из эстетического манифеста документализма заключение люмьеровского оператора, вынесенное в эпиграф, кажется, до сих пор не было последовательно осмыслено в рамках кинодискурса. То ли из-за пространности формулировки, то ли из-за её метафоричности, чрезмерно обобщающей представление о природе кинематографа, то ли… из-за кажущейся самоочевидности?
И тем не менее, к высказыванию Феликса Месгиша стоит присмотреться внимательнее, игнорируя его внешнюю наивность. Поскольку именно эта «наивность» есть, в сущности, то, что красноречивее множества иных реплик отражает впечатление от жизненности документального образа в кинематографе, которую особенно остро ощущали кинематографисты и теоретики конца XIX и начала XX века – только-только открывшие для себя «движущиеся изображения», «жизнь на экране».
Это, таким образом, наивное – первое, непосредственное и наиболее честное, – впечатление, не обремененное ничем, кроме как кинематографически зримым объектом, вызвавшим его.
В конце концов и как будет понятно далее, именно это «наивное» впечатление выступает крайне значимой зацепкой к пониманию природы кинематографа вообще. Попробуем, хотя бы и в качестве умозрительного эксперимента, отнестись к реплике Месгиша как к своеобразной теоретической интуиции, способной в некоторой мере осветить для нас путь к пониманию сущности кино.
Как и было подмечено ранее, высказывание люмьеровского оператора инспирировано, в первую очередь, впечатлением от жизненности киноизображения – его документальной «всамделишности», о которой Феликс Месгиш мог рассуждать не понаслышке, а как практикующий документалист. Киноаппарат, нацеленный на живую «толпу и ее волнения», регистрировал образ и в отличие от знакомых человеку XIX века искусств черпал его составляющие не из фантазий и дум, но из реальной жизни.

Кадр из фильма «Взгляните на лицо», реж. П. Коган, 1966 г.
Характерным подспудным качеством этого образа служило то, что он приковывал к себе внимание, завораживал, нередко являя при этом в общем-то самые обычные, знакомые каждому объекты и явления, увиденные, впрочем, зрением киноаппарата, действующим по универсальным оптическим законам и одновременно – от себя, в отличие от человеческого зрения.
Киноизображение заставляло человека вглядываться в его содержимое, каким бы «прозаичным» оно ни было. Иными словами, человек, открывший кинематограф, обнаружил в себе неожиданную склонность созерцать записанную на плёнку жизнь, которая представала как нечто непривычное, увиденное впервые.
Забегая сильно вперед по хронологии, можно привести слова российского документалиста Виктора Косаковского, который в тексте «Стоп, спасибо, прожито», в частности, так характеризует эту свойственную для кино черту:
Кино – это всегда что-то, увиденное впервые. Оно должно дать человеку ощущение, которого он никогда не испытывал – до того момента, когда он пришёл в этот зал и увидел на экране этот кадр. Он видел раньше восход солнца – а оказывается, не видел. Он видел раньше похороны – нет, тоже не видел. Он ощутил, почувствовал, прожил что-то, чего не было в его жизни.[2]
Схожего эффекта еще до изобретения кинематографа мог добиться фотоснимок, но едва ли он, недвижимый, статичный, был способен так заворожить, погрузить в себя зрителя, как это делали пульсирующие жизнью киноленты. Оттого Месгиш и пишет об отличительной «динамике жизни и природы» на экране, характеризующей кино как таковое – рожденное, чтобы эту динамику регистрировать.
И как будто подтверждая верность интуиции Месгиша, немецкий теоретик Зигфрид Кракауэр в своей «Теории кино» пишет о причинах появления кинематографа следующее:
...всем хотелось получить аппарат, который запечатлевал бы самые пустячные события окружающего нас мира – уличные сцены, так часто привлекающие толпу, стихийные движения которой чем-то напоминают движения волн или листьев...[3]
Стоит, впрочем, подробнее остановиться на термине динамики, как её понимал Феликс Месгиш. Ведь в общих чертах динамикой является и процесс высыхания краски на стене, который также способен приковать внимание особо искушённого зрителя. Описываемая же кинематографистом динамика есть нечто совсем иное, что рождается именно в активно движимом скоплении объектов, обладающих рядом общих видимых признаков, – например, в людском столпотворении.
Но чем интересен этот внешне непримечательный процесс и его динамика в контексте рассуждения о природе кинематографического – о сущности кино вообще?
Кинематограф, рождённый документальным, как инструмент регистрации обличья действительности и, по словам Кракауэра, «специально приспособленный для восстановления прав физической реальности», на заре своего существования находил особую отдушину в наблюдении за непостановочным действием.
Точнее говоря, сами кинематографисты применяли киноаппарат для наблюдения за реальностью, поскольку такое его использование артикулировал им сам механизм камеры, ограниченный возможностью запечатлять на пленку зримые объекты и явления – не более и не менее того.
Не будет лишним упомянуть, что в связи с этим в начале XX века долго не утихали споры относительно роли кинематографа. И часть европейских мыслителей и журналистов склонялась к мысли, что эта самая механистичность, «автоматизм» киноаппарата не приспособлены для искусства, которое стремится, наоборот, исключить автоматизм из жизни, сделать отдельные её части осмысленными, подчеркнуть их значение, и есть самая что ни есть сущностная часть кино.
Так, М. Ямпольский, приводя свидетельства французских теоретиков, пишет:
Одним из центральных вопросов ранней киномысли был вопрос о том, является ли кинематограф искусством или чисто механическим средством воспроизведения реальности. В пользу второго решения этого вопроса говорили многочисленные тексты ученых – создателей кинематографа. В них утверждался чисто научный статус кино <...> Кинематограф был как бы похищен у ученых коммерческим шоубизнесом, на что они в целом отреагировали негативно <...> Ранняя кинематография осмысливала себя в оппозиции к искусству как чисто научный инструмент.[4]
У самых своих истоков кинематограф воспринимался и осмысливался людьми как регистратор, как безголосый наблюдатель. Более того: кинематограф в представлении свидетелей его рождения и распространения был кинематографом постольку, поскольку по природе своей был документальным и не имел ничего общего с традиционными видами творчества.
Людей впечатляла сама возможность не опосредованной автором-художником фиксации и последующей трансляции «кусочков жизни» на экране, движение объектов – живых, неживых, человеческих и нечеловеческих в ограниченной рамке кадра. Причиной этого жизненного впечатления, рождаемого созерцанием документального кино, служит то, что можно назвать «документальным образом». Но что это такое?
В общих словах, документальный образ представляет из себя чистый результат работы киноаппарата, то есть кадр с запечатлённой зримой ипостасью объекта или явления, обуславливающих своей видимостью как процесс, так и результат съемки.
Понимание документального образа возможно, в частности, при опоре на ролан-бартовские понятия. Его можно объяснить через punctum[5], то есть как «укол», точку, в которой рождается наиболее непосредственное восприятие зримого содержимого изображения, где (ссылаясь на терминологию того же Барта) означающее и означаемое совпадают в едином запечатлённом объекте. Последний, таким образом, предстает как самозначный объект, открытый для зрительского субъективного понимания и трактовок.
Так, документальный образ самозначен. В том смысле, что не предлагает зрителю никакой иной трактовки самого себя, кроме тех значений, которые диктует смотрящему сама видимость объекта или явления. Документальный образ рождает контекст восприятия его и других документальных образов в пределах кинематографического фильма и в этом отношении отличен от фильма художественного – требующего нарративного движения, складывающего выразительными средствами контекстно целостную историю.
Андрей Тарковский проводил четкую разделительную черту между образом в кино и символом в искусстве и, в частности, подчеркивал точность, или же конкретность кинообраза, основанного на видимости конкретного же снимаемого объекта. Он, в частности, писал:
Образом является отражение жизни, а ни в коем случае не зашифрованное какое-то понятие. Ни в коем случае. Зашифрованным понятием можно обозначить символ, аллегорию, но к образу это никакого отношения не имеет. Образ в своем соотнесении с жизнью бесконечно точен, он выражает жизнь, а не обозначает, а не символизирует что-то другое.[6]
Наконец, документальный образ есть то, чем единственно способен оперировать кинематограф, ограниченный в своем функционале одной задачей – регистрации этих самых документальных образов.
Руководствуясь этой точкой зрения и принимая ее в качестве предпосылки, в рамках гипотезы можно предположить, что кинематограф тогда только и реализуется как кинематограф, когда всеми своими средствами обращен к визуальному «постижению» зримой ипостаси действительности; иными словами, именно тогда, когда механистически регистрирует видимую реальность, «высекая» из неё самозначные документальные образы, как тому способствует функционал кинокамеры.
В рамках темы настоящего текста полноценное и последовательное раскрытие этой гипотезы означало бы сильный уход в сторону, но само её принятие (в пределах мысленного эксперимента, разумеется) позволяет нам по-особому взглянуть на эффект, который производит на человека снятое на камеру столпотворение, который и есть ничто иное как документальный образ, с восхищением описываемый Феликсом Месгишем.

Кадр из фильма «Шестая часть мира», реж. Д. Вертов, 1926 г.
Что такое людская толпа? Инертный человекопоток, состоящий из разрозненных индивидуумов, которые образуют единовременное движение. У толпы есть лицо, хотя нередко его обесцвечивают до простой «серой массы».
Индивидуальность толпы складывается из множества человеческих индивидуальностей, различно, каждая по-своему, выражающих себя: эмоциями, повадками, манерой общения с попутчиком, походкой, в конце концов, взглядом, чертами внешности, реакцией на происходящее – все это отличает одного человека от другого в пределах единого столпотворения. И каждую из этих характерных черт улавливает всевидящее око киноаппарата.
Иными словами, в столпотворении киноаппарат регистрирует сразу огромное множество документальных образов, единовременно складывающихся в единый документальный образ – в «лицо» толпы. Непрерывное движение, образующееся не одной только ходьбой, но также и отдельными человеческими индивидуальными проявлениями – эмоциями, мимикой, жестами, – даёт кинематографу возможность обнаружить в толпе свой «кинетический абсолют».
Камера, как пытливый ученый или опытный терапевт, регистрирует «симптомы» – ловит недовольный взгляд человека, которому наступили на ногу, или спешку опаздывающего на работу, или смыкающиеся в приятную беседу губы молодой пары, которая почему-то не замечает гул вокруг, или полное безразличия к окружению уставшее лицо пожилого человека… – все, что нередко ускользает от нашего взора, но улавливается кинематографом.
В столпотворении отчетлив пульс самой жизни – хаотичной и, самое главное, в полной мере не поддающейся режиссированию, творческой организации даже в художественном фильме. Опираясь на это, можно сказать, что кино будто бы было рождено для регистрации большого количества единовременно движущихся объектов.
Выхватывая из реальности каждый из них, кинематограф своим примером доказывает безграничность жизни – полной неповторимых мгновений, несущих в себе отпечатки тысяч обстоятельств. Не содержащие определённого, навеянного извне значения, случайно зафиксированные средствами кино зримые обрывки действительности откликаются в сознании зрителя, воспринимающего даже привычные для себя облики объектов и явлений по-новому – как бы сызнова проясняя для себя их значение.
Примером этому может послужить хрестоматийная лента «Взгляните на лицо» советского режиссера-документалиста Павла Когана. Нехитрое её содержимое исчерпывается общими, иногда крупными планами людей, пришедших в Эрмитаж на экскурсию. Посетители музея – молодые, взрослые, престарелые – мерно ступают за экскурсоводом, которая рассказывает об истории и значении художников и их произведений.
На протяжении всего фильма на экране предстают искренние эмоции, мимика и реакции посетителей музея. Лица их попеременно отражают порой восторг, порой непонимание, озадаченность, порой восхищение и удивление. Кому-то же из них откровенно скучно.
Вот женщина средних лет приставляет руку к лицу, слегка подпирая его таким образом; следом – кадр с мужчиной, который, сняв очки, закусил дужку и держит её во рту; девушка вытягивает шею в попытках что-то разглядеть, пока остальные, стоящие вокруг неё, как будто более безучастны к зрелищу и, может, сосредоточены только на произносимой экскурсоводом речи.
Еще до знакомства с фильмом, в одном только его названии «Взгляните на лицо», явлен императив, побуждающий зрителя внимательно обратиться к тому, что он видит – разглядеть в документальном образе скопления людей отдельные детали-индивидуальности, зрительно подчеркнуть для себя своеобразность представителей этой «толпы» и отследить её динамику и, может, увидеть в её лице отражение – себя, своих собственных мыслей, непременно рождающихся при соотнесении мировосприятия с повадками, манерами, реакциями и эмоциями снимаемых людей.
Рассуждая об «эффекте толпы», уместно вспомнить ленту «С востока», снятую в 93-м году в антураже угрюмой послереволюционной Москвы бельгийским режиссером Шанталь Акерман. В отличие от когановской работы данная лента полностью отказывается от недиегетического звукового сопровождения, также побуждая зрителя в первую очередь вглядываться в его содержимое.

Кадр из фильма «С Востока», реж. Ш. Акерман, 1993 г.
Изрядная доля фильма обращена к регистрации зримых образов простых людей, увлечённых своими простыми делами. Зритель видит их скопления со стороны – например, когда оператор делает горизонтальный проезд вдоль улицы, наполненной человеческими фигурами, или останавливается посреди широкой «пешеходной магистрали», снимая спины уходящих вглубь кадра людей.
Взгляд зрителя, помещенный в обстоятельства кинопросмотра, с особым тщанием подмечает фактуру снимаемых фигур, лиц, внешний вид, одежду людей так, будто видит таких людей и людей в принципе впервые (хотя для москвича и тем более свидетеля московской жизни в 90-е годы это зрелище самое что ни есть привычное).
Он становится поглощен изучением предлагаемых обстоятельств и их движения, то ли выискивая что-то знакомое в представленном документальном образе, то ли, сталкиваясь с отдельными его проявлениями, сызнова открывая этот образ для самого себя – наконец, рефлексируя на его материале, обновляя собственное мировидение.
Характерно, что движение толпы людей, попавших в кадр, прямо-таки увлекает за собой взгляд зрителя. В отличие от в целом малоподвижной публики из когановского фильма динамика столпотворения, зарегистрированная в ленте «С востока», целиком поглощает внимание смотрящего своими переливаниями, о которых он даже не задумывается, и погружает зрителя в подобие «созерцательного транса».
На волне этого рассуждения никак нельзя обойти стороной ранние советские хроникальные ленты, в которых «эффект толпы» явлен, быть может, лучше чем где бы то ни было еще. Такие фильмы как, например, «История гражданской войны», «Годовщина революции», а также многочисленные выпуски «Киноправды» Дзиги Вертова во многом и состоят из человеческих толп различных слоев общества – будь то крестьян, рабочих, обычных горожан или даже солдат.
Впрочем, уличные движения, парады и процессии попадали в кадр и дореволюционных операторов. Преследуя цель зарегистрировать, например, связанные с монаршими особами мероприятия, они так или иначе фиксировали и волнения толпы, обрамляющей те или иные события. Таким образом, до нашего времени дошли работы различных кинематографистов, включая Вертова и его «киноков», которые с особым тщанием выхватывали из реальности людские скопления, предоставив нам возможность изучить эпоху в многочисленных «коллективных портретах» её современников.
Характерно, что именно той необычайной жизненной силе, которую подмечала документальная камера «киноков» в столпотворении, вероятнее всего, и завидовал Сергей Эйзенштейн, захаживавший на показы вертовских «Киноправд» и особенно впечатленный «Кино-глазом», а после – пытавшийся как бы копировать метод, «документальную стилистику» своего оппонента, нанимая непрофессиональных актеров и разыгрывая на сцене хаотичный характер живого столпотворения в фильме «Стачка»[7].
Толпа «животворящая» и вечно движимая побуждает искать её жизненного качества даже в пространстве постановки, а игровые режиссёры стремятся к её динамике, увлекающей взгляд и сознание.
Возвращаясь к мысли Кракауэра, в рамках которой он сравнивал «стихийные движения толпы» с динамикой волн и листьев, можно предположить, что производимый кинематографом «эффект толпы» не обязательно обнаруживается только в буквальном столпотворении людей. Как я и писал ранее, подразумеваемая динамика рождается в активном движимом скоплении объектов, обладающих рядом общих внешних признаков.
И это скопление может быть из чего угодно – пусть даже из треплющих берег морских волн, или опадающих листьев, или из проливного дождя, капли которого разбиваются об асфальт.
Так, излюбленным «скоплением» операторов начала XX века были движущиеся шестеренки, различные механизмы, заводы и их станки, а также автомобили и их движение по городским улицам. Вспомним фильм того же Дзиги Вертова «Энтузиазм: Симфония Донбасса» с его «песней», складывающейся из зримой неостановимой динамики разнообразных заводских металлургических механизмов, кранов, поездов и труб!

Кадр из третьего выпуска киножурнала «Кино-Правды» Д. Вертова, 1922 г.
Резюмируя данную статью, следует сказать, что «эффект толпы», восхваляемый Феликсом Месгишем, – это довольно трудноуловимое и скорее подспудное, нежели обязательно присущее кинематографу свойство. Его наличие в документальном фильме опционально, но оно способно усилить впечатление от просмотра подлинно кинематографичного фильма, целиком построенного на жизненном движении.
Присматриваясь к столпотворению и производимому им эффекту в теле документального фильма, можно заключить, что в толпе, во-первых, много индивидуальности, рождающейся из отдельных её составляющих – единичных документальных образов, всегда открытых для считывания, восприятия и рефлексии, а также обновляющих мироощущение зрителя.
Во-вторых, у толпы есть своя уникальная динамика, состоящая из паттернов движения отдельных объектов и способная приковать к себе внимание зрителя, увлечь его в созерцание чистого «кинетического абсолюта».
Наконец и в-третьих, толпа, или скопление, регистрируемое средствами кино, способно принимать самые различные «формы», а точнее – состоять из чего бы то ни было, будь то органические или неорганические объекты.
Поскольку, как известно, кино – это динамика жизни и природы во всех ее многообразных, хаотичных и противляющихся рассудочной воле проявлениях. Толпа в кино постольку ценна для нас как изучаемый феномен, поскольку способна нагляднее всего представить многогранность жизни, к регистрации которой стремится кинематограф, единственно приспособленный эту многогранность подмечать.



.svg)